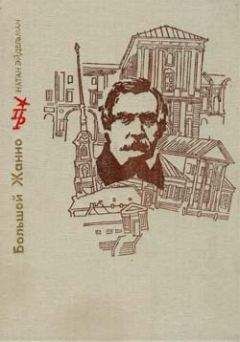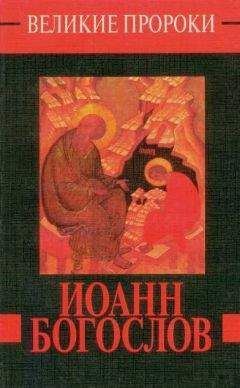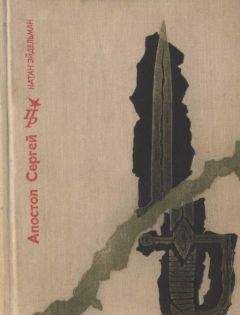Но возвратимся в крепость.
Вот так за день или даже дольше пройдем Англию. А на другой день — Франция, на третий — Священная Римская, на четвертый — Рим древний, следом пойдут Гишпания, Дания. Президентов Североамериканских к тому времени всего шесть набралось — о последнем, Адамсе, я узнал в ту пору, как ездил к Пушкину в Михайловское.
Были, Евгений, конечно, и другие способы убить время (если успею, то в дальнейшем научу!). Помните, еще в кофейне 14 декабря я практиковался: берется какой-нибудь памятный, скажем лицейский, день, и вот утром в камере начинаешь прямо с раннего утра того далекого дня — что делали именно в этот час? В следующий? И так — днем, вечером — мысленно живешь по лицейскому расписанию: чай, рекреация, газеты, куплеты. Получается, может быть, что хвастаюсь, — сидел, дескать, молодцом, не то что другие. Ах, батюшка Евгений Иванович, не хотел бы хвастать! И слезу, случалось, ронял. Как подумаю — что мой Рылеев? Где Бестужевы-то мои; и особенно, когда, разложив тюремные сутки на лицейские часы, вдруг соображаю, что вот уж второй час и как раз прогулка с беготней и буйством — кто на лопатках, тот проиграл. И всех поборол граф (или шевалье, бог знает эти титулы) — наш Брогльо; но угадайте, кто был вторым? Не угадаете! Думаете — я или великан Малиновский? Представьте — Дельвиг. Силен был, дьявол, хоть и не двигался.
Поймите еще, что мне в тюрьме было легче, чем многим: по родным тосковал, конечно, но, слава богу, десять братьев и сестер на воле; есть кому стариков утешать. Брата Михайлу очень жалел, но понимал (и точно угадал), что он все же легче моего отделается.
Кому же в крепости всех хуже? Скажете, женатым, отцам семейства. Не соглашусь. Рылеева, бедного нашего Кондратия Федоровича, между прочим, согревали надежды, что его, как человека семейного, все же не казнят (из пятерых повешенных, кроме него, все холостые). Если же говорить о Трубецком, Муравьеве, Фонвизине, вашем батюшке — их скорее подкрепляло ожидание писем, свиданий, других милостей, которые по семейной части все же предоставлялись (хоть и прихотливо).
В общем, не могу подбить итога: им и лучше, им и тяжелее во сто крат.
А хуже всех, по моим понятиям, было влюбленным, но не успевшим или не имевшим права с любимой соединиться.
Суди сам.
Панов, 22 года, невеста в Москве, из башмачка ее пьет с друзьями. Такой герой, римлянин. Да я на месте той невесты в Патагонию бы за ним помчался — а тут, видишь ли, дева послушная, маменька ей, оказывается, не велит любить государственного преступника Панова — как Наташе Гончаровой ее маменька Пушкина запрещала читать…
Так и остался бобылем наш Панов и сложил кости на иркутском кладбище. Мир праху!
Но самая горькая, на мой сантимент, история — это Николай Александрович Бестужев. Немногие знали его тайну; сейчас кроме родных, может быть, я один остался посвященный. Знайте же теперь и вы.
В Сибири наши дамы постоянно осаждали Николая Бестужева — то прямым вопросом, то «шуткой в сторону»: отчего не женат?
К другим редко подобные вопросы обращались, из чего следовало, что насчет других дамские мнения определились: одни слишком молоды, другие слишком легки, что ли, для законного брака. Я, по всей видимости, относился к последнему разряду, ибо взгляда своего на женитьбу как на один из способов лишения естественной свободы ни от кого не скрывал.
Поэтому мне всего лишь желали «найти когда-нибудь такую, кто приструнит и к рукам приберет», а вот от Николая Александровича никак не отступались. Чутьем каким-то супруги наших товарищей чувствовали, что Бестужев: 1) по летам уж мог бы сходить под венец до ареста (прожил на воле 34 года); 2) по красоте, живости, необыкновенным достоинствам представлял для прекрасной половины человечества мужской идеал; 3) притом не вертопрах, склонен к домашности, очень и очень расположен к любому встречному ребенку.
За чем же стало дело? Отчего никто за ним не поехал в Сибирь и даже в поклонах, приходивших от матери, сестры, младших братьев, не было ничего такого (а уж в казематах любая весть из дому каким-то образом делалась общим достоянием).
Николай Александрович отшучивался: морская служба, «где уж нам, соленым волкам» и проч. После намекнул на свои обязанности по тайному обществу, и это звучало более правдиво, но не вызывало доверия; ведь Н. А. врал крайне неохотно и без должного умения.
Он и сам это почувствовал, а однажды, на втором или третьем году, вдруг — после очередного дамского нападения — сказал с обычной своей улыбкою: «Я отвечу письменно» (вообще было видно, что вопросы об интимных обстоятельствах были Бестужеву чем-то приятны, хотя ответом и не удостаивал).
Очень скоро он передал Александре Григорьевне Муравьевой, а через ее посредство всем остальным свою повесть «Шлиссельбургская станция» («Отчего я не женат»). Написано было по всем романтическим правилам: герой, то есть сам Бестужев, на Шлиссельбургской станции встречается с двумя дамами, дожидающимися лошадей, в виду крепости (мне столь хорошо знакомой). Странная ночь, рассказы о снах и проч. — в конце концов герои разъезжаются в разные стороны, сердце моряка отдано навсегда милой встречной. Она приглашает посетить ее в Петербурге, он только о том и мечтает — но: «Я не поеду к ней — я не хочу ее сделать несчастною».
Какие-то места этой повести были, без сомнения, маскировкой, так сказать, псевдонимом подлинных обстоятельств, но зато как горячо и трепетно писан был портрет незнакомки — некоей Любови Андреевны, и уж тут Бестужев-живописец и Бестужев-литератор постарались один за другого, а я тогда же списал небольшой отрывок.
Вот мой отрывок:
«Молодая приезжая дама… взяла свечу и подошла к зеркалу, чтоб скинуть свою дорожную шляпу, чепец и поправить — я не знаю что: женщины находят и в дороге средство заниматься своим туалетом, — я увидел в зеркале — боже мой, что я увидел! Черты такие, в какие всегда я облекал мою мечту, мой идеал красоты и прелести, который только что носился перед моими глазами! Когда она скинула чепец, густые кудри волос рассыпались по всему лицу, закрыли глаза и щеки; надобно было привести их в порядок: они уложены были за уши, и открытая физиономия показала мне лет двадцати двух женщину. Она была немного бледна — это могло быть с дороги, — впрочем, эта бледность была совершенно к лицу и задумчивому выражению глаз… Первый раз в моей жизни выражение женской физиономии сделало на меня такое впечатление…
Итак, она, придвинув к себе свечу, начала читать Стерна».
Мне и всем было ясно, что Бестужев приоткрыл для нас краешек завесы, охраняющей его тайну, и не было сомнений, что тайна очень печальна, что она гложет и точит этого человека, одного из самых необыкновенных, кого я встречал на земле; а позже Михаил Александрович Бестужев устно подтвердил мне, что «та самая дама немало приблизила брата к могиле».
Когда это было сказано, я уже знал всю историю.
Кроме меня — и раньше моего — полную исповедь Бестужева выслушал, кажется, только Иван Дмитриевич Якушкин и незабвенная наша Александра Григорьевна, от которой никакой тайны и невозможно было иметь.
А. Г. Муравьева, нежная и прекрасная жена Никиты Муравьева, умерла 28 лет в Петровском заводе. Именно Николай Александрович, на все руки мастер, сделал ей гроб, а после следил за установкой памятника. О лампаде в часовне, поставленной над ее могилой, Иван Иванович уж рассказывал. Недавно мне сообщили, что и после смерти Горбачевского, следившего за могилой, лампада все поддерживается и на дороге видна издалека.
Войдя к Бестужеву в камеру (в Чите), Якушкин заметил прекрасный женский портрет, который Николай Александрович не успел или не пожелал спрятать. Позже и я увидел — женщину не молодую, очевидно, мать семейства, живую, черноглазую, чувственную, одухотворенную, не очень уж красивую — слово это нейдет, и Бестужев не старался прихорошить (это было б сразу заметно), не красивую, а такую, что способна душу, мысли, желания захватить, овладеть ими, в тебя превратиться и в себя превратить. Не умею хорошо сказать, но понимаю, что, чем ярче, сильнее человек, который увлечется этой женщиной, тем безнадежнее пропадет, ибо с него есть что взять, а она сумеет! Ее, кстати, можно и невзлюбить — резкий язычок, острое словцо всегда готовы! Но вот что невозможно — это равнодушие: она все равно заставит любого о себе думать, говорить невольно, — в положительном или отрицательном смысле. Но стоит чуть-чуть увлечься или возыметь мысли вступить в легкую, безопасную, казалось бы, связь — и «коготок увяз…». И ты пропадешь, но и она сгорит. Ты — дотла, а она, женщина все же — ради детей, в последний миг выйдет из пламени (хотя еще неведомо, кому при этом больней).
Эти мои рассуждения, Евгений Иванович, конечно, не тогда родились, когда я впервые увидел портрет (на слоновой кости, по памяти сделанный). Это уж после — когда вся история мне открылась, и пора ее рассказать в том порядке, как услышал от самого Николая Александровича. А когда же услышал — вообразите! Да все в том же 1849 году, с которого начал я эту тетрадку, когда ехал из Ялуторовска своего в Восточную Сибирь лечиться и доехал аж до самого Горбачевского.