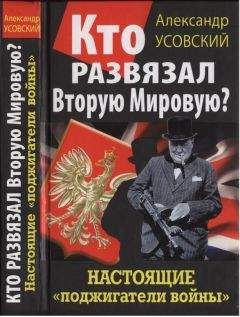Николай I сие действо не разрешил. Но сам факт!!!
* * *Накануне «январского» восстания 1863 г., в 1860-м, «в Лодзи насчитывалось уже 29 450 постоянного и 3189 человек пришлого населения, в том числе 12 179 немцев; фабричное производство занимало 7107 рабочих рук, и общий оборот его достигал 2 612 095 рублей. В то время самым обширным производством славилась фабрика Людвига Гайера (перерабатывающая 541 тыс. фунтов бумажной пряжи при 547 работниках); ей составляла конкуренцию фабрика Карла Шейблера (давшая 1 455 804 р. чистого дохода, т. е. 16% на основной капитал в 9 млн рублей), перерабатывающая в год 458 тысяч фунтов пряжи при 115 рабочих».
Вот что значит — «бескрайний рынок сбыта»! Промышленность Лодзи росла как на дрожжах — и, дабы не прогневить Господа, господа фабриканты время от времени скидывались на строительство общественных зданий; а поскольку в этом смысле тогда наилучшим вложением капиталов считались православные храмы — то строили именно их. И не имело на самом деле никакого значения, что подавляющее большинство населения было католиками! Важно было грамотно прогнуться перед русской властью.
Появлением первой православной церкви Лодзь обязана спасению жизни императора Александра II после неудавшегося покушения в 1879 г. Наиболее влиятельные лица города обратились к губернским властям (Лодзь входила в состав Петроковской губернии) с просьбой разрешить строительство церкви в знак благодарности за чудесное спасение Государя. Разрешение было получено, фабриканты организовали комитет по строительству церкви и пожертвовали для этой цели немалые суммы, например, председатель Комитета внес 10 тыс. рублей.
Постройка Тереспольской железной дороги, соединившей Привислянский край с внутренними губерниями России, а затем Лодзинской фабричной ветви, а также сперва франко-прусская, затем русско-турецкая войны — все это были прямые и косвенные причины изумительного роста фабричной промышленности города. В 1878 г. имелось 80 фабрик (это не описка; это официальные данные из энциклопедии Брокгауза и Ефрона) хлопчатобумажного производства, с общим оборотом свыше 18 754 ООО рублей, и 80 фабрик шерстяных изделий с оборотом свыше 81 500 ООО рублей. Рост Лодзи и ее промышленности продолжался на всем протяжении 1877 — 1914 гг. с беспримерной для европейских городов быстротой. К началу 1896 г. в Лодзи насчитывалось свыше 100 врачей, 10 аптек с оборотом до 200 тыс. рублей, 4 аптекарских магазина с оборотом в 480 тыс. рублей, 375 пекарен, производящих товаров на 3 млн рублей, 5 пивоваренных заводов, вырабатывающих пива на 595 тыс. рублей ежегодно, 244 мясные лавки с годовым оборотом в 1 320 тыс. рублей, 274 табачных лавки с оборотом в 800 тыс. руб., 620 оптовых складов и магазинов для продажи спиртных напитков и вин на сумму 31 500 000 рублей. Это что касается промышленности и торговли.
Но и банковское дело Лодзи было поставлено на соответствующую высоту.
В городе насчитывалось 11 мелких банкирских домов, делающих операций на 41 500 000 рублей. Из крупных банковых и акционерных учреждений в Лодзи наиболее обширна, после отделения государственного банка, была деятельность местного коммерческого банка, обороты которого в 1894 г. достигли 258 750 498 руб.; учет векселей составил 26 383 242 руб., текущие счета — 7 157270 руб. Дивиденд по акциям был назначен в 12% их номинальной стоимости. Лодзинское городское кредитное общество с 1872 по 1894 г. выпустило 5% закладных листов на 12 608 200 руб.; лодзинское отделение варшавского акционерного ссудного общества с 1891 по 1895 г. выдало 64 тыс. ссуд на сумму 5 млн рублей. Основой лодзинской промышленности была выделка хлопчатобумажной ткани, находившаяся в руках крупных и средней руки фабрикантов; более мелкие занимались производством мануфактурных товаров остальных категорий — шерстяных, полушерстяных и др.
Позволю себе спросить — где бы была вся лод-зинская промышленность, не будь у нее российского рынка сбыта? Вопрос остается чисто риторическим.
* * *Но это сфера, так сказать, материальная, скажет вдумчивый читатель. А ведь еще духовные моменты в жизни каждой нации! А проклятый царизм, как известно, злостно угнетал свободолюбивых поляков, не давал им самовыражаться и вообще всячески гно-бил и принижал поляков, пресекал все пути к их развитию и поставил большой жирный крест на любой мало-мальски серьезной карьере для любого человека из-за Буга.
Бред!
Карьеру в Петербурге поляки делали даже во времена национальных поражений. Об этом свидетельствует, например, судьба Станислава Моравского (1802—1853), известного мемуариста, получившего медицинское образование. «Из-за сложных отношений с отцом он около 1829 г. переехал в Петербург и занялся врачебной практикой в высшем свете столицы. Петербургские медики, желая избавиться от опасного конкурента, в сентябре следующего года употребили все свои усилия на то, чтобы Моравский был включен в состав комиссии, созданной для борьбы с холерой. Таким образом, ему пришлось-таки покинуть Петербург, однако он приобрел себе могущественного покровителя в лице министра внутренних дел Арсения Андреевича Закревского. Через год Моравский вернулся живым и здоровым в Петербург и стал чиновником по особым поручениям при директоре медицинского департамента. С января 1833 г. он был врачом в статс-секретариате по делам Царства Польского, а затем стал чиновником законодательной комиссии. В Петербурге он находился до 1838 г., сумев наладить связи с интеллектуальной элитой и в великосветском обществе. Он описал их в своих интереснейших мемуарах («В Петербурге. 1827 — 1838»), где отразилось его восхищение столицей России и царившей там интеллектуальной атмосферой. Наверное, поэтому его мемуары были изданы лишь в 1927 г.».
Но эта карьера — сущая ерунда по сравнению с остальными!
После начала восстания 1830 г. в Петербурге в числе делегатов мятежной Варшавы оказался министр финансов Царства Польского князь Ксаверий Любецкий; он все еще надеялся на полюбовное разрешение конфликта. Но это оказалось невозможным, а самому Любецкому по приказу царя пришлось остаться в Петербурге. И по царскому же распоряжению в начале января 1831 г. Любецкий отправил письмо Хлопицкому, в котором пытался убедить того в необходимости прекратить восстание. Благодаря этому Любецкий не лишился милости Николая I; в феврале 1832 г. царь назначил его членом Государственного совета (ИМПЕРСКОГО Государственного совета!) и включил в состав комитета по выработке «органического устава» для Царства Польского, который должен был заменить польскую Конституцию. Любецкий также оказывал заметное влияние на финансовую политику империи. Он, между прочим, находился в постоянном конфликте с министром финансов Канкриным, причем настолько глубоком, что его даже подозревали в желании занять этот пост. Любецкий скончался в Петербурге (1861). Последние годы жизни Любецкого лишили его всяких шансов на то, что когда-нибудь в независимой Польше ему поставят памятник.
В 1834 г. Николай I проявил особую заботу о семьях генералов, погибших в «ноябрьскую ночь» (ночь на 29 ноября 1830 г., когда началось восстание) от рук повстанцев за то, что не пожелали к ним присоединиться и сохранили верность России. Так в столице империи оказалась дочь Мауриция Хауке Юлия, которую произвели во фрейлины двора. В 1851 г. она вышла замуж за принца Александра Гессенского. Их потомки породнились с представителями многих европейских династий, так что и наследник британского трона принц Чарльз, и король Испании Хуан Карлос — потомки Юлии Хауке.
Если бы не восстание 1863 г., иначе могла бы сложиться судьба потомка обедневшей шляхты Иоса-фата Огрызко (1827—1890). Окончив в 1844 г. минскую гимназию, он работал сначала в Петербурге смотрителем при транспортировке товаров. В 1849 г. ему, однако, удалось окончить юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1857 г. Огрызко был принят на службу в Министерство финансов и быстро поднимался по ступеням карьеры. Когда началось восстание, он формально занимал должность вице-директора, а фактически был уже одним из руководителей этого ведомства. В то время он получал 3000 рублей годового жалованья. Но он пожелал поучаствовать в мятеже 1863 г. — и был сослан в Сибирь. Иосафат Огрызко умер в Иркутске в 1890 г.
«Однако ничто не воспрепятствовало карьере многих других поляков, начинавших делать ее в Петербурге. Среди живописцев, добившихся наибольшей после вышеупомянутого Орловского славы, был Генрих Семирадский (1845 — 1902), который в 1864 г. поступил в Петербургскую академию художеств. «Участвуя во всех конкурсах, он собрал все награды, какие только было можно», а в 1870 г. за огромное полотно «Александр Македонский и его врач Филипп» получил золотую медаль и заграничную стипендию на шесть лет. С 1871 г. Семирадский в основном жил за границей, но по-прежнему часто приезжал в Петербург, где пользовался покровительством царского двора. По сей день, впрочем, Семирадский фигурирует во многих российских учебниках как выдающийся художник польского происхождения.