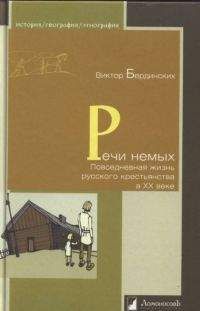Про ребят-то я могу рассказать. Подростки-то основной силой в колхозе были, больше взрослых робили. Ну и с маленькими они нянчились. А бывает, маленького-то и оставить не с кем, так мать ему молока с хлебом намешает да за ногу к крылечному столбу привяжет, чтобы не убегал. Рядом ведь речки, а малой и в луже может утонуть. Кто пойдет — накормит…
Помню, мы один раз с подружкой пошутить захотели. У одной старушки к кольцу на калитке нитку привязали, а на той стороне сарай был. В него спрятались (а это ночью было) и давай за ниточку дергать. Она раза четыре вышла. А наутро приходит к подружкиной матери и говорит: «Я, мол, вчера загадала, приснится сын — живой вернется. Только так и не спала всю ночь. Все кто-то кольцом брякался». Сына-то так и убили у нее, долго нам нехорошо было. И не потому, что ей не дали сына увидеть, а надежды мы ее лишили — вот отчего!
Тогда ведь ближе люди друг к другу были. Потому, что горе общее было, радость общая…
«Как мы верили в Сталина!»
Лукьянова Александра Тимофеевна, 1905 год, крестьянка
Маша Платониха шла с базару и говорила, что началась война, ей никто не верил, а часов в одиннадцать едут люди на двух лошадях и кричат, что надо идти в военкомат.
В ту ночь было бедствие. Забрали десять человек, все прощаются, до Ошланского мосту провожали. Потом гребли вику, клевер ли, а Иван Прокопыч кричит, что Ваньку берут, биллярских берут и наших всех по повесткам.
Арсентьича, мужа моего, взяли 9 августа 1941 года. Он только что пришел с финской войны. Сначала взяли военнообязанных, а потом стали брать молодых ребят. Стариков стали брать в трудовую армию. Женщин мобилизовали в лес. У меня было трое ребят, а помоложе девчонок окопы гоняли копать, а потом в Киров на завод. Как мы верили в Сталина! Соберут колхозное собрание: «Товарищи, Сталин просит варежки, шерсти». Принесем клочками шерсть, вяжем. У нас Марфа была, у нее не было никого. Все отдавала: овчины, валенки, молоко.
Я была выбрана лечить маленьких детей, все ребята умирали от голода. У меня сын Ленька начал собирать корешки, поел их, заболел дизентерией и умер. Если похоронная придет, то так и считали: что делать — без жертв война не бывает. Самые тяжелые дни помню: хлеба ни крошки, отец — старик, мать, ребята, и семь дней мы питались не знаю чем. Ребятам председатель по 100 грамм хлеба давал. Дома трудно: отцу восемьдесят три года, матери тоже, сестра больная да ребята.
А в лесу мы лес валили, сучки обрезали, в лесу была два года. В зиму два раза домой ходила. Как сменили Антона Ивановича, председателя сельсовета, так и нас сменили. Стали мы молотить. День молотишь, ночь сортируешь, утром встаешь и везешь в Турек, а там тридцать две ступеньки, и все ведь таскаешь на себе. Самые тяжелые мешки — это с пшеницей и горохом. Лошади через силу таскали. Картошку возили, так себе воровали.
На суд меня гоняли — в лес не ехала, да не я одна. Идем, хохочем — думали в милицию идем, дак ничего. А нас до ночи держали. Мишка наш говорит: «У них дети плачут — а они тут сидят». Вызвали к прокурору, тот спросил, сколько детей, и тут же отпустил.
Потом сняли Антона Ивановича, а он ел людей. Подохните, говорил, дак не больно и надо. Павел Яковлевич (председатель колхоза) стал ребятам пайки давать, мне тоже дал. Все на себе пахали, и он с нами пахал.
Немало лес помогал. Грибы там, ягода, растения разные. Простой с работы никогда не идешь, то лебеду несешь, то кисленку собираешь. У нас на лугах много было кисленки кобылячей. И повадились ребята чужие, так их палкой гоняли. Бывало, с сенокоса возами возили кисленку.
Почему-то думали, что так и надо, говорили, что никто и ничто не будет забыто. Мы очень верили в победу. В День Победы я била сваи на мельнице в Романове. Был у нас начальник почты Андрей Захарьич. Он бежит и кричит: «Война кончилась! Война кончилась!» Все работу бросили, идем не знаем куды. Председатель вытащил красную скатерть и повесил на пожарной. Провели собрание. Сразу дали хлеба, мукой, на ребят. Всех больше ребят берегли.
Кто не погиб, начали возвращаться. Мой Ваня вернулся в 1947 году. Он вернулся в ярмарку. Все его видели на ярмарке. Пришел он после обеда. А вот встречать Ваню я не пошла, сколь была страшна, худа. Я послала Райку да Володю (детей), а сама сижу. Он заходит, говорит: «Что с тобой?» А я: «Хочешь, так сейчас бросай! Разведемся — гулять будешь». Посмеялся только.
«Как люди могли день и ночь работать?»
Лежнина Анна Ивановна, 1930 год, село Муша, крестьянка
Как началась война, не помню. Помню только, как провожали брата Николая на фронт. Собралась вся деревня, молодежь играла в гармошку, пели песни, а утром увезли на лошади в Советск. А в ноябре 1941 года повестка пришла и тяте. Уж не было гармошки, не было и песен. Все ревели. В семье оставалось пять человек: мама, старшая сестра, брат, я да еще младшая сестра.
Хлеба не было, корова была, да ее пришлось продать, а на вырученные деньги купили хлеба да козу. Питались мы плохо. Весной копали прошлогоднюю картошку, такую гнилую и ели. С картошкой варили крапиву. Любили очень песты, из них делали лепешки, сушили и толкли. Летом ели кисленку. Серпом жали ее, а когда высушивали — колотили, потом мололи на мельнице и тоже пекли лепешки.
На трудодни давали хлеба очень мало, какие-то граммы, ели подсолнечные корни, их тоже рубили и на мельнице мололи. Мука получалась белая, но невкусная. Когда хлеба нисколечки не оставалось, ходили с ребятишками на мельницу, там по горсточке всем давали, а кто и не даст, всякие люди были. Помню, ходили с подругами сбирать (нищенствовали, — В. Б.) в другую деревню. Зашли в один дом, там как закричат — без оглядки домой прибежала. И с тех пор больше не ходила.
Летом ходили по ягоды, по грибы. На обед что-нибудь сваришь, пойдешь в лес — вот тебе и опять ужин готов. Народ с голоду опухал. Животы надуваются, а ребенки как рахиты.
Одеванья тоже никакого не было. Ходили в лаптях, а если издерутся, обшивали кожей. Оболочки (верхняя одежда. — В. Б.) были портяные, все самотканые, сами пряли, ткали. Матрац, подушка — соломенные. Посуды было мало. Чашки были глиняные, горшки тоже, ложки деревянные. В избе стояли лавки от стены до стены, да стол был еще самодельный. Комод тятя до войны смастерил.
Приходилось спать больно мало. С утра до вечера работали. В Октябрьскую, Новый год, Пасху, Троицу, Луговое заговенье, в Петров день, 1 Мая — вот тогда и не работали. Иногда и в эти дни не отдыхали: как сев, как погода. Праздники ждали очень радостно, не как сейчас. Собирались на вечерки, танцевала под гармошку. Любили «чижика», «бара-бышку», «рабочую», пели частушки. Эти вечерки проходили в избах, где надо было хозяину помочь, пол вымыть или дров наколоть. Ходили на посиделки, где пряли, вязали и за работой любили петь. Соберется нас человек двенадцать — песни поем, а парни в карты играют.
У нас были свои вечерки маленькие, но иногда ходили и ко взрослым. Летом ходили в соседние деревни, тоже на вечерки, а те к нам ходили. Девок было много, а парней-то не хватало. Маленьких, что не взяли на войну, вот их было много. Света тогда не было (электрического. — В. Б.). На вечер нащепают лучины целое полено, а иногда солому. Дыму-то сколько! А ничего, сидели.
Летом тракторы стерегли и горючее ночью, а то горючее больно таскали, а у трактора могли и части утащить, вот ночью и стерегли. А днем мы воду заливали. Трактористы раз по борозде проедут — и опять заливать. Больно тракторы плохие были, да и трактористами были вдовы и девки, мужиков-то не было.
Зерно возили из глубинки для государства с каждого колхоза. И я возила — на быке. В жару бык устанет, ляжет и лежит. Немного полежит, встанет и идет шагом. А вот домой шел быстрее. Еще и картошку возила в Советск, от нас до Советска было 30 километров. Больно уж крута гора там. Едешь, едешь — свету белого не взвидишь, и объехать-то нигде нельзя. Когда и поревешь. Грязи тоже хватало. Хоть в дождь, хоть в снег, все равно приходилось ездить. А лошаденка была трехногая. У ней нога «выпадала». Идет, и нога вихляется. Каких только лошадей не было. Но если б не они, совсем бы плохо пришлось. Сейчас удивляемся, как люди могли день и ночь работать, а теперь лишнее время трудиться никого не заставишь. А тогда с песнями, с шутками со всеми делами справлялись.
Помню, война кончилась, а с войны тятя долго не возвращался. Когда рожь цвела, все ждала, если цветок расцветет, то тятя вернется, цветок расцвел, а тяти все нет. Несколько раз так гадали. Вот один раз побежали на поле гадать, а там солдат идет, вся грудь в орденах. Такой звон от них стоял. На все поле, как колокольный. Пригляделись… так ведь это наш тятя пришел с фронта! Как обрадовались ему, что живой пришел! Из деревни вернулось двенадцать человек, шестнадцать было убито. Больше половины убило, ведь и молодые совсем.