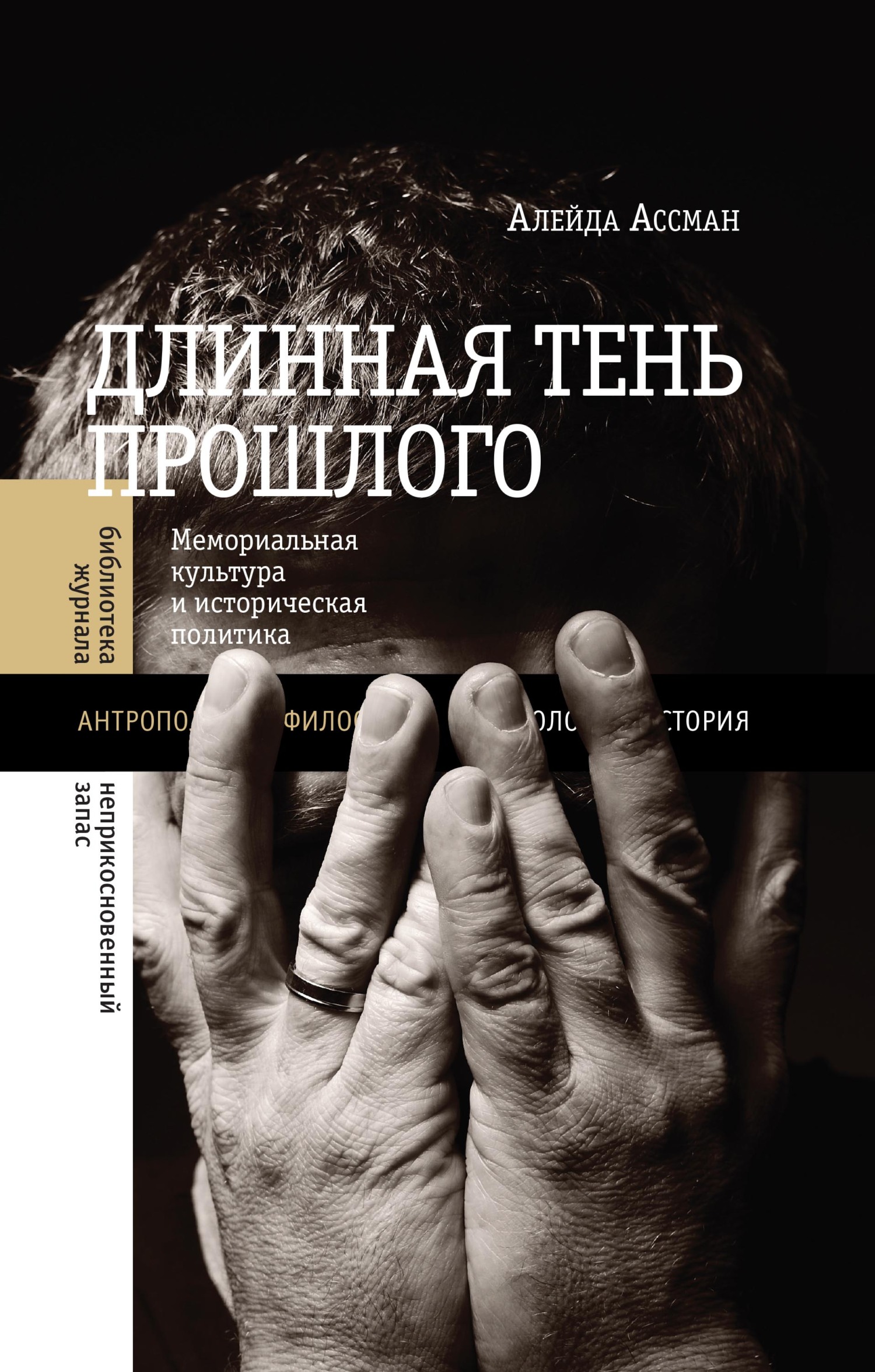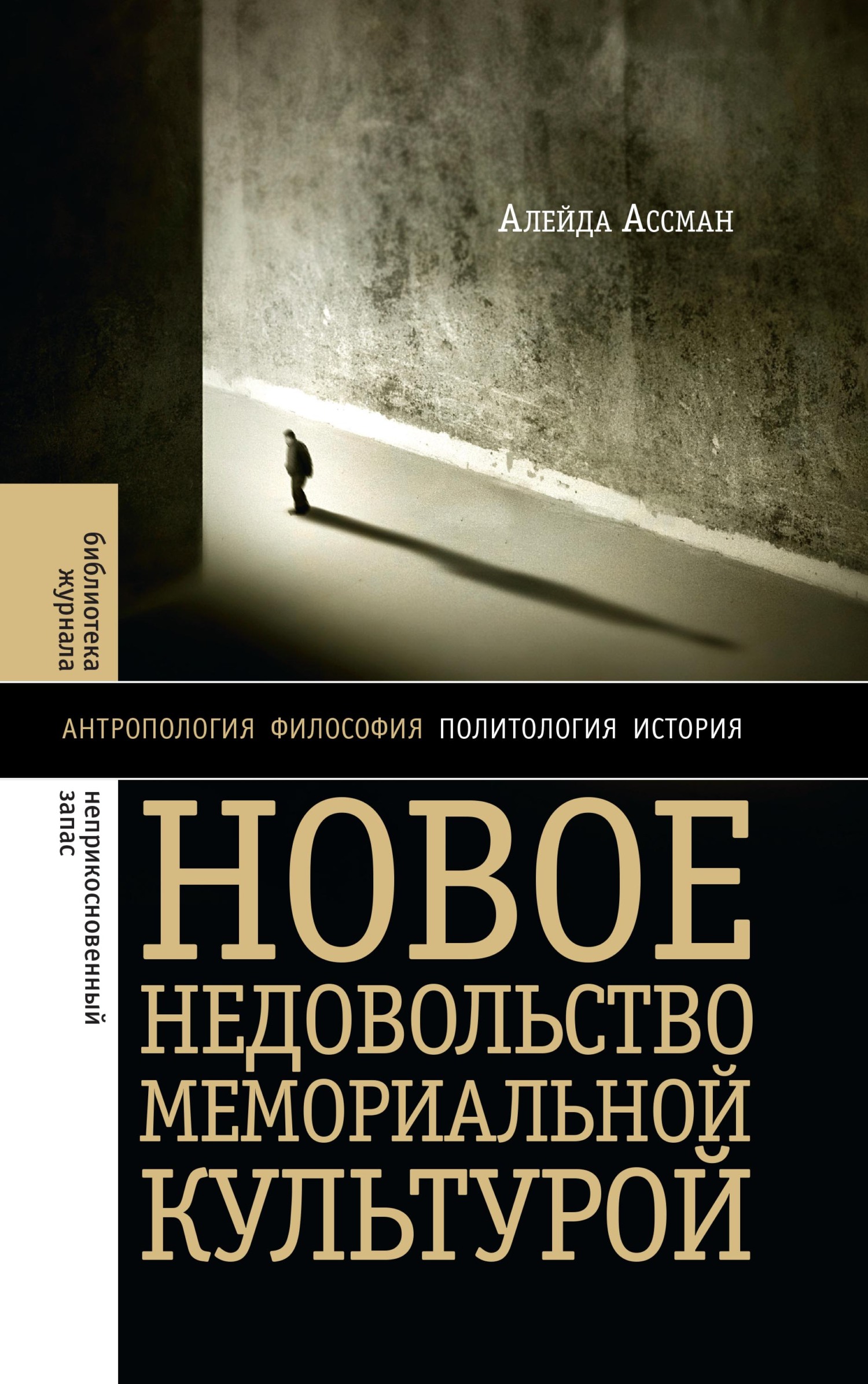От внимания рецензентов не ускользнула семантическая близость к текстам о Холокосте и «использование терминов с соответствующей коннотацией»; они указывали на «языковую неряшливость» и «семантические оплошности» [326]. Но те, кто говорил о «семантических оплошностях», не понял, что язык книги неразрывно связан с ее замыслом. Книга о пожарах сама должна была стать запалом. Это очень четко уловил Хеер. Его полемика с книгой Фридриха свидетельствует также, что в данном «споре историков» речь идет не столько о фактах, сколько об их репрезентации. Фридрих пользуется такими приемами вербального инсценирования, когда смыслы и аргументы оказывают непосредственное воздействие еще до их осознания. В «дуэли» между Ханнесом Хеером и Йоргом Фридрихом оспариваются сами правила производства дискурса, за которыми стоит табу, накладываемое на сравнения и взаимные зачеты виновности: с одной стороны выступает апологет немецких страданий, с другой – обвинитель немцев. Да, «сегодня ни один серьезный человек не станет отрицать Аушвиц и оспаривать вину немцев»; и все же Хеер бьет тревогу, ибо книга Фридриха представляет собой «дымовую завесу, под которой относительно незаметно происходит поворот в исторической политике» [327]. Хеер, как пожарный, реагирует на аргументы Фридриха, которого он именует в своей книге «поджигателем». Эти позиции нельзя примирить, они прямо противоположны в инсценировании противоборства между страданием и виной.
Дуэль между Фридрихом и Хеером вновь продемонстрировала вынужденную альтернативу, о которой говорил Грасс: одно преступление оказывается вытеснено другим преступлением. Но именно это и делают Фридрих с Хеером в своем историко-политическом клинче. С одной стороны, страдание немцев делает возможным оправдание преступников, с другой стороны, утверждение вины немцев, не признающее никакого опыта страданий. В такой ситуации категории «преступник» и «жертва» разделены с максимальной четкостью. Но жесткая классификация создает пространство, где полемика лишь воспроизводится и происходит исключение противоположного мнения, где нет места для полутонов, для возражений, дилемм и амбивалентностей.
Разумеется, не стоит недооценивать готовности немцев уйти от ответственности, воспользовавшись ролью жертвы. Однако нельзя всякий раз, когда заходит речь о страданиях, автоматически делать вывод о стратегии ухода от ответственности или отрицания собственной вины. Бинарная логика любой из сторон при обсуждении проблемы совместимости вины и страдания заводит в тупик. Невозможно устранить историю страданий из немецкой семейной памяти одним лишь указанием на ее неполиткорректность. Существует нечто вроде права человека на собственные воспоминания, не подлежащие табуизированию и цензуре. Как же выйти из этой вынужденной альтернативы?
При внимательном рассмотрении норм, сложившихся в мемориальной практике демократических государств, намечается решение данной проблемы. Воспоминания, как мы знаем, носят мультиперспективный характер и потому гетерогенны в самой своей основе. Их гомогенизация происходит лишь на уровне репрезентации, где наблюдаются тенденции гармонизации и инструментализации. Одновременно репрезентация обнаруживает дифференцированность воспоминаний, демонстрируя границы между опытом, лояльностью, солидарностью и ответственностью. У каждой нации есть совершенно разные воспоминания, различается и групповой опыт, поэтому вопрос состоит не в том, чтобы подчинить все разнообразие единому господствующему нарративу, а в том, чтобы интегрировать это разнообразие внутри общеобязательных рамок памяти. На мой взгляд, проблема гетерогенности воспоминаний решается за счет их иерархизации. Иерархизация включает в себя вопросы ценности и власти. Ныне воспоминания характеризуются все большим охватом и все большей обязательностью на индивидуальном, семейном, социальном и, наконец, национальном уровнях. На нижних уровнях нормативные решения и установления излишни; зато на национальном, политическом уровне они неизбежны. Это можно подтвердить актуальными примерами из сферы памяти о принудительных депортациях.
Эрика Штайнбах, председатель «Союза изгнанных», относится не столько к поколению непосредственно переживших принудительную депортацию, сколько к солидаризирующемуся с ним поколению «приверженцев» (Bekenntnisgeneration). Она поставила себе цель добиться признания памяти своей семьи и своей социальной группы на национальном уровне. Здесь мы имеем дело с другой частью поколения 68 года, которая не искала конфронтации с поколением родителей, запятнавших себя виной, а объявила себя наследниками их истории, пережитых родителями страданий. Чтобы партикулярная память об изгнаниях утвердилась на национальном уровне, Эрика Штайнбах добивается не только сооружения берлинского «Центра против изгнаний»; этот символический акт вызвал некоторое недоумение у европейских соседей, не понимающих, как он сочетается с наличием мемориала в память о погибших евреях. Меньшее внимание обратил на себя тот факт, что в дополнение к данному символическому акту Эрика Штайнбах призывает учредить в Германии новый памятный день. 5 августа, день подписания «Хартии изгнанных» (1950 год), должно, по мысли представителей данной социальной группы, стать новой общегерманской датой в национальном мемориальном календаре. Соответствующее решение уже принято бундесратом, рекомендация об учреждении памятного дня направлена в правительство, которое, однако, пока отклонило эту инициативу.
Подобный пример наглядно показывает, как партикулярная память может стать частью национальной памяти. Это не произошло лишь потому, что препятствием послужили определенные рамочные условия. Я вновь возвращаюсь к вопросу о нормативности памяти. Нормативами в рамках немецкой национальной памяти служат: Холокост, признание и проработка немецкой вины, а также принятие ответственности за зверства нацистского режима. Партикулярные мемориальные истории должны вписываться в эти общеобязательные рамки. Здесь опять затрагивается проблема иерархии: существует национальный уровень с нормативно обозначенными рамками памяти и социальный уровень, где гетерогенные воспоминания о страданиях, вине и сопротивлении могут соседствовать друг с другом, не нарушая общей целостности. Интеграция внутри рамок означает, что отдельные воспоминания больше не деконтекстуализированы, а признаются частью «безрассудно начатой немцами и преступной войны».
Перед лицом данной динамики и изменчивости социальной памяти определенная нормативность необходима. Кроткая политкорректность, как и жесткий императив «либо – либо», здесь не помогут. Чем яснее нормативные установки, тем больше гибкости на уровне социальной памяти. Семейная история страданий не может доминировать над государственной памятью о вине, но и государственная память не может служить тюремным засовом для памяти о пережитых страданиях. Социальная память с ее разнообразием и внутренними конфликтами должна обрести нормативную ориентацию благодаря национальной памяти. Иерархическая структура, с одной стороны, устанавливает в демократическом национальном государстве определенные границы для социальной памяти, а с другой стороны, позволяет национальной памяти увеличить внутреннюю сложность и гибкость.
Там, где одни усматривают смену перспективы в немецкой мемориальной истории, другие видят в ней расширение горизонта [328]. Я отношу себя к числу последних и убеждена, что правила дискурса и дискурсивные табу не могут повлиять на динамику памяти. То же самое относится к научным исследованиям, которые должны быть открыты для новаций; они призваны обнаруживать неизвестные ранее аспекты, углублять дифференциацию. Все это не обязательно нарушает общую целостность мемориальной структуры и не ломает нормативные рамки немецкой национальной памяти.
8. Пересечения между живой памятью-опытом и культурной памятью
Часто