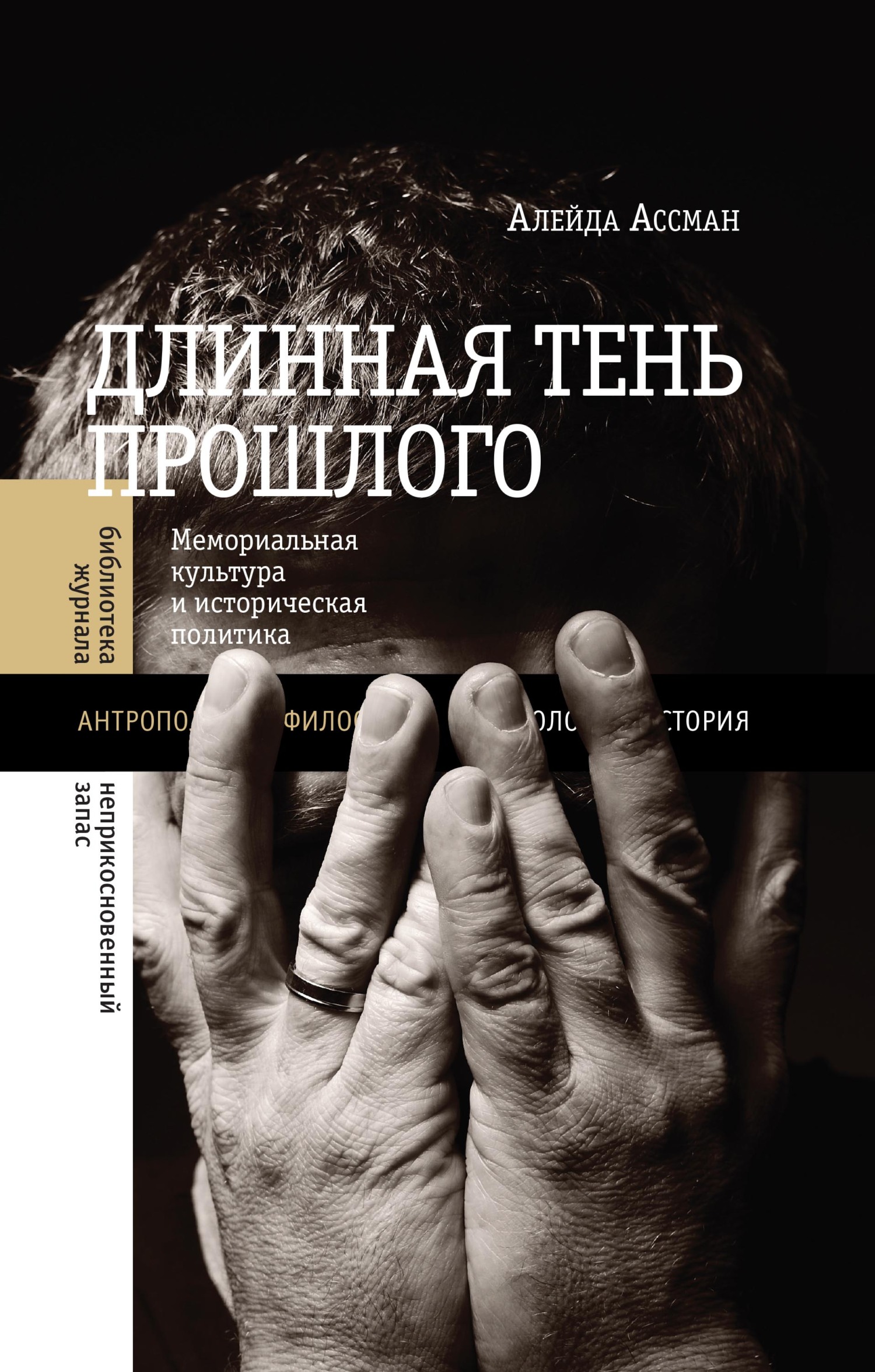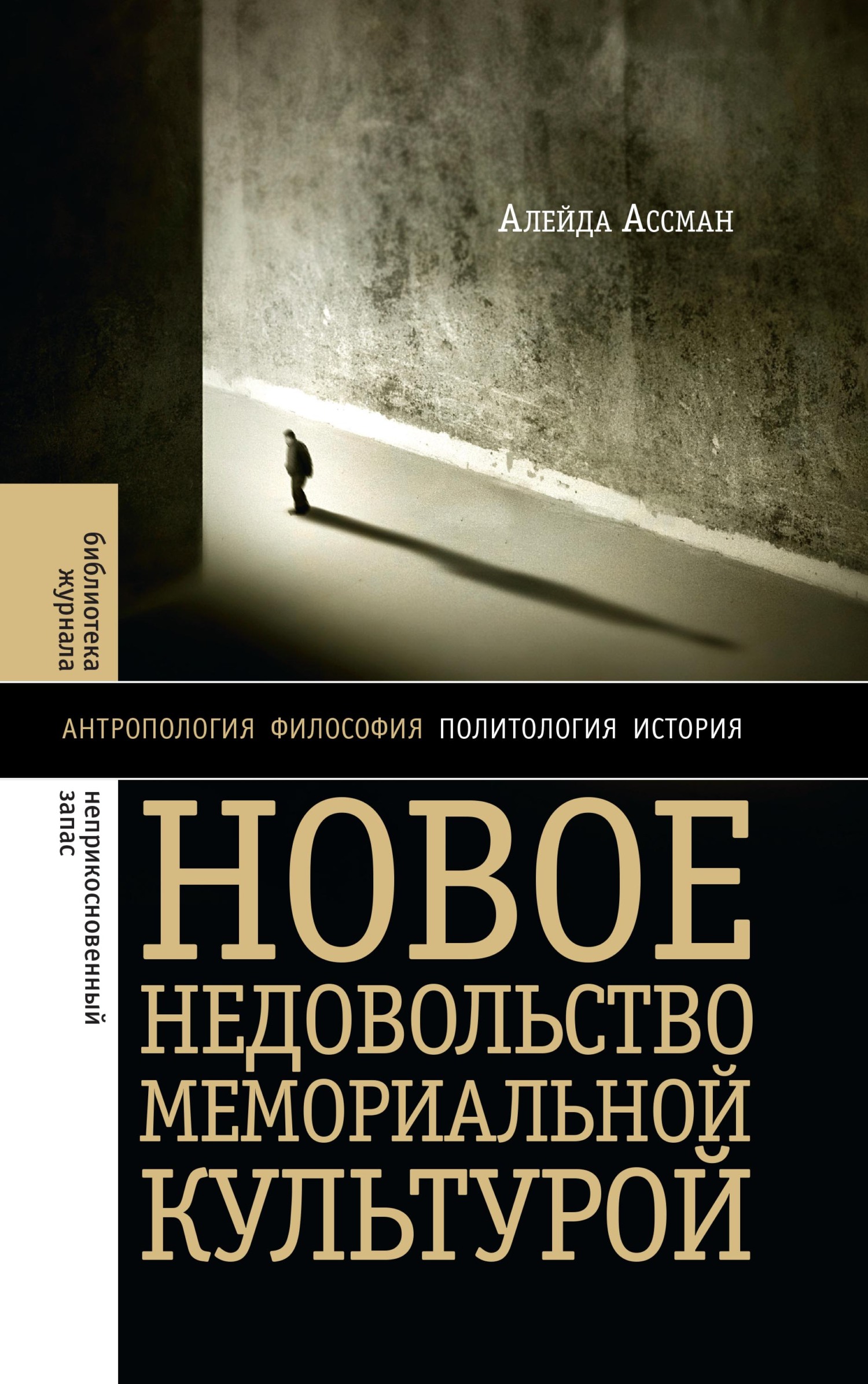время этого ритуала объявляют „близнецом“ юной жертвы Холокоста, которой было не суждено пережить эту церемонию» [336]. Убитого мальчика или убитую девочку принимают в мемориальное сообщество живых, а нынешнего ребенка принимают ритуалом «бар-мицва» или «бат-мицва» в сообщество, объединенное общей судьбой – трагедией Холокоста. Религиозная церемония становится двойной инициацией, которая связывает религиозную общину с сообществом, объединенным трагедией Холокоста. Там, где нет символических ритуалов индивидуального причащения и инициации, которые возвращают в нынешний день события прошлого, характеризующиеся сильным эмоциональным воздействием, узы коллективной памяти гораздо слабее. Это относится к Германии, где в официальных церемониях по случаю национальных памятных дат принимают участие политики или другие публичные лица, представляя собой население в целом.
От индивидуальной к культурной памяти
Наша индивидуальная память вмещает в себя гораздо больше того, что мы пережили на собственном опыте. Мозг человека и его память обладают такой способностью, которая используется как при коммуникации индивидуума с другими людьми, так и при его взаимодействии с материальными знаками. На это указывал семиотик Юрген Трабант, подчеркивая, что «в нашей культуре мы приобретаем с помощью знаков больше знаний, нежели путем непосредственного опыта, с помощью своих поступков и действий» [337]. То есть «не существует пропасти между моим индивидуальным знанием и его социальным измерением»; ибо преобладающая часть моих знаний черпается не «из моего соприкосновения с внешним миром, а приобретается посредством знаков» [338]. Сходную мысль высказал социолог Эдвард Шилз: «Восприятие индивидуума включает в себя вещи, которые не ограничиваются его личным опытом. <…> Память наделена не только воспоминаниями о тех событиях, которые индивидуум пережил сам, но и воспоминаниями других людей. <…> Их сообщения, зачастую опережающие собственный опыт индивидуума, и письменные тексты разного времени происхождения порождают „расширенное представление“ человека о самом себе, которое охватывает события, как состоявшиеся совсем недавно, так и произошедшие задолго до его рождения» [339].
С помощью культурной памяти каждый человек оказывается стоящим на плечах гигантов, и каждый является сообладателем не только огромного запаса знаний, но и огромной сокровищницы памяти. От универсального и специализированного знания содержимое культурной памяти отличается тем, что мы усваиваем его не для того, чтобы «владеть» им и использовать для определенных целей, а чтобы сделать его частью нашей идентичности.
Инкарнированное живое воспоминание – экскарнированная медийная память
Предпосылками того, что живая индивидуальная память может стать культурной памятью, являются символическое расширение и психологическая идентификация [340]. Посредством репрезентации (которая подразумевает символическое кодирование, запись на материальные носители, размножение и распространение) воспоминание и личный опыт становятся коммуницируемой информацией. Чтобы превратиться в знание, информация должна быть воспринятой заинтересованным человеком и переработанной им, иначе она – в лучшем случае – будет отложена ad acta в культурной накопительной памяти. Знание же усваивается через психологическую идентификацию и когнитивную проработку, после чего оно осмысляется как часть собственной идентичности, чтобы войти в состав культурной памяти.

Символическое расширение означает отстыковку от первоначального человеческого носителя памяти; психологическая идентификация означает состыковку с новым человеческим носителем. Что происходит при переходе от живой индивидуальной памяти о пережитом опыте к индивидуальной памяти, берущей свои содержания исключительно из культурной памяти? В чем различие между живой памятью об опыте и внешней медийной памятью? Мартин Вальзер дал на этот вопрос проницательный ответ, написав: «В прошлом, которое у всех нас общее, можно бродить, как посетители ходят по музею. Собственное прошлое недоступно для посетителей» [341]. Недоступно для посторонних, добавим мы, потому что оно не экстернализировано и не объективировано. В качестве подвластной мне «я-памяти» и неподвластной мне «меня-памяти» оно является неотделимой и не выводимой вовне частью нашего «Я». Память об опыте – инкарнирована, находится внутри нас; медийная память, напротив, – экскарнирована, существует вовне. Отделяясь от живой памяти, медийная память становится доступна для других памятей на новом и равноправном уровне.
Конфликт между памятью о личном опыте и культурной памятью описал Хорхе Семпрун, бывший узник Бухенвальда, в потрясающей сцене своей книги «Писать или жить», убедительно проанализировав при этом различие обеих формаций памяти [342]. Через три месяца после освобождения из Бухенвальда Семпрун, находясь в Локарно, пошел в кинотеатр. Как обычно, перед демонстрацией художественного фильма показывали кинохронику. На сей раз на экране возникло то, что Семпрун пережил совсем недавно, но, конечно, еще носил в себе: «Неожиданно после репортажа о спортивных соревнованиях или о какой-то международной встрече в Нью-Йорке я, на секунду ослепленный, был вынужден закрыть глаза. Я опять открыл их, чтобы убедиться, что это не сон, на экране мелькали те же изображения, неотступно. <…>
Это были кадры, снятые в различных концлагерях, которые несколько месяцев назад были освобождены наступающими войсками союзников. Берген-Бельзен, Маутхаузен, Дахау. Среди них – кадры из Бухенвальда, я сразу узнал их.
Точнее, я определенно знал, что их снимали в Бухенвальде, хотя не был до конца уверен, что действительно узнаю их. Еще точнее: я не был до конца уверен, что раньше видел все это сам. И все-таки я это видел. Точнее, я это пережил. С толку сбивала разница между виденным и пережитым».
До того дня Семпруну удавалось избегать подобных экскарнированных визуальных образов. У него сохранялись лишь инкарнированные образы, которые время от времени вспыхивали в нем как «flash backs». Но существовали и другие внутренние образы, которые он мог вызывать по собственному желанию: «они также были во мне, были – несмотря на всю их невыносимость – вполне естественными, словно картины детства». С этими картинами произошло нечто неожиданное: «Внезапно среди тишины этого кинозала в Локарно, где умолкло перешептывание, где воцарилась тишина ужаса и сострадания, а возможно, и тишина возмущения, – эти картины, столь интимно мои, сделались отчужденными, попав на киноэкран. Тем самым они ушли из-под власти моего личного вызова или цензуры, Они перестали быть моей собственностью и моей мукой: смертельные сокровища моей жизни вышли из-под власти моей памяти и цензуры. Они перестали быть моим достоянием, моей карой: смертельные сокровища моей жизни. Они сделались всего лишь – или наконец – крайним, внешним проявлением реального зла – его холодным и вместе с тем жгучим отсветом.
Эти серые, иногда расплывчатые кадры, снятые подрагивающей ручной кинокамерой, приобрели качество безмерной, потрясающей реальности; мои собственные воспоминания не обладали подобной силой. <…> Парадоксальным образом, на первый взгляд показалось, будто ирреальность, отчасти фикция, присущая любому кинематографическому изображению, даже документальному, придала моим самым интимным воспоминаниям необратимую весомость реальности».
Наверняка существует не много текстов, которые с такой