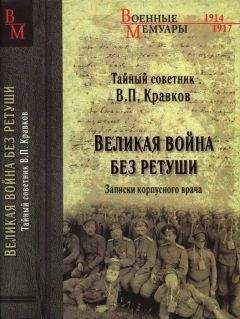В телеграммах штаба Верх[овного] главнокомандующего о бывшем 8 марта нашем наступлении ничего не упоминается. […]
Вечером за компанию с корпусным командиром пошел в городской театр. Было довольно пусто; Радко-Дмитриев не был по случаю простуды: промочил ноги при командовании на позициях 8-го числа, шинель у него была прострелена во многих местах. […]
12 марта. Оттепель и ветер. 120-ю дивизию выхватывают у нас в 6-й Сибирский корпус. Радко-Дмитриева назначают командующим 6-й армией. Большой минус будет для дела обороны Рижского укрепленного района. О недавних боях наших официальная телеграмма гласит: «в Рижском районе у сел[а] Плаканен[658] и в районе южнее о[стро]ва Дален наши войска имели столкновения с сильными отрядами неприятеля». Формирование корпуса идет черепашьим ходом. […]
13 марта. Отличная погода. Немецкие аэропланы, пальба по ним. Глухая, редкая канонада со стороны Далена. С командиром побывали сначала в лютеранском соборе (Домской церкви), а оттуда в нашем соборе; и в том и другом хорошо пели. В отношении благолепия нет храмов лучших, чем наши православные! […]
14 марта. 20-ю дивизию затрепали: только что она пришла в 6-й корпус — немедленно предписано ей следовать опять назад. Люди измучены переходами и нервным их дерганьем. […]
Получены сведения, что летит цеппелин. После ужина зашел к командиру, послушал граммофон[659], а потом пошли гулять; долго бродили; человек он словоохотливый и все время рассказывал мне о претерпленных им обидах со стороны Плеве, о злополучиях под Иллукстом в октябре месяце, когда в одном сражении в 19-м корпусе полегло три полка[660], о бегстве 13-й Сибирской дивизии, и проч. и проч. Целую ночь по небу шарили наши прожектора. […]
15 марта. Дивный солнечный день. Сверх чаяния — не было аэропланов. С юга доносится прерывистая канонада. Под большим секретом: завтра с 3 часов ночи предназначено наступление без предварительной подготовки артиллерийским огнем (ч[то]б[ы] обмануть неожиданностью немца!); уложить должны массу людей; 120-я дивизия моего корпуса вместе с латышскими батальонами должна сыграть роль тарана, будучи поддержана с левого фланга 13-й, а с правого фланга — 12-й Сибирской дивизией. Под Плотнен и под Симан, Леп[661] на позициях еще по одному полку 121-й дивизии.
16 марта. […] В 9 утра за мной в автомобиле заехал граф Зубов с своим помощником, и мы все-таки покатили на Плаунек — Дамалт. В Плаунек застали Колянковского, начальника 120-й дивизии со штабом; полки его отходят, люди измучены бессмысленным их дерганьем за последние восемь дней, приходилось одному полку в сутки совершать переход почти в 80 верст. И Колянковский, и его начальник штаба ругательски громят высшее командование за безалаберные распоряжения; в изображении сих генералов развал в действиях и взаимодействиях наших штабов, развал в управлении и войсками, и всем тылом с российской державой включительно иллюстрирован был массой конкретных фактов с такой безотрадной выпуклостью, что даже и меня поразило — меня, уже давно переставшего удивляться всем кошмарным явлениям русской действительности. […]
19 марта. […] Виделся с уполномоченным Кр[асного] Креста Тимротом[662] — типичный бюрократ-сноб; всевозможные меры принимаю, ч[то]б[ы] пользоваться главным образом лишь услугами «Земгора». […]
20 марта. […] Все очень радуются назначению командующим 12-й армией Радко-Дмитриева, пользующегося общей симпатией как прекрасного человека и военчальника, зато Горбатовского очень не любят, и чуть ли не больше всего за то, что он был очень скуп на награды. Начальник его штаба генерал Беляев[663] и прочие ставленники Горбатовского встревожены перспективой, что будет новый «хозяин» и им придется как прислуге «отойти от места».
Этот анафема-«семеновец» чуть ли не провоцирует меня утверждением, что милюковы-де и шингаревы — антипатриоты и хотят лишь одного: ч[то]б[ы] только добиться министерских портфелей! Всякая сволочь, конечно, в состоянии судить о других только с точки зрения своей же сволочной идеологии! Не выше своего кармана и своей утробы! […]
22 марта. […] Неприятное известие: Долгов назначается в 7-й Сибирский корпус, а в 37-й какой-то Третьяков[664] из 42-го корпуса. Очень-очень жаль, за все время нашего с ним сослужения я не слышал от него ни одной дикой мысли и не видел ни разу проявлений к[акого]-либо хамства к подчиненным, не исключая солдат. Для меня в этом отношении он явился каким-то уником среди наших витязей.
23 марта. Погода такая же очаровательная. Насладился прогулкой по Царскому саду. С фронта глухо доносится ураганная канонада. Вечером проводили Радко-Дмитриева. […]
25 марта. […] Приехал новый корпусной командир — человек, по-видимому, благодушный и не хам, призывал всех штабных жить между собой в мире и любви. Правильно! Мое мнение о никудышности начальника 121-й дивизии генерала Таубе для полевого командования войсками совпало с таковым высшего начальства: он неожиданно для себя удален в резерв! Другой — начальник 120-й дивизии Колянковский нудно тянет свою служебную лямку, вожделея при первой возможности уйти на покой. […]
26 марта. […] Новый командир Третьяков проявляет себя тюфяком и, вероятно, попадет под власть «славного семеновца». Я смотрю на все свысока и слишком не заискивающе отношусь к новому патрону. Мои полюбившие меня коллеги — дивизионные врачи — встревожены распространившимися слухами, что и я ухожу из 37-го корпуса в 7-й Сибирский к Долгову. С этим милым человеком мы сегодня всем штабом снимались.
Ушел главнокомандующий Южного фронта Николай Иудович Иванов[665], и на его место назначен кавалерист Брусилов[666]. Неопределенные слухи ходят о предстоящем будто бы уходе Куропаткина на место Алексеева[667], а Алексеева — чуть ли не в Государственный] совет. Совершается обычная мена докторов у постели тяжко больного человека! Как ни садитесь, а все в музыканты не годитесь: не верю я в возможность нашего наступательного шествия; послал бы лишь Господь, ч[то]б[ы] хоть удержаться на тех позициях, на к[ото]рых стоим! […]
28 марта. […] За столом сегодня завелся разговор с участием в нем командира (порядочная, видимо, жопа!), особенно же — «славного семеновца»; затронуты были такие щекотливо-крупные вопросы, и разрешались они сплеча таким детским лепетом, что жутко было слушать. Я все время молчал, напрягши все усилия, чтобы не крикнуть: «Караул!» Подумать только, что ведь такими людьми комплектуются у нас администраторы и такими людьми окружен трон государя; в руках таких людей судьбы нашей России. Боже мой! Как безотрадно грустно! Возвеличить Россию, даже и в настоящий момент, рассчитывают ничем иным, как только ежовыми рукавицами да кузькиной матерью! […]
30 марта. […] «Много шуму из-за яичницы»: суетятся в ожидании приезда великого князя Георгия Михайловича; вот уж кому на свете живется весело даже и в настоящую пору — это великим князьям, нашим нахлебникам.
[…]
3 апреля. День райский. […] Половину 120-й дивизии отвели на позиции под Иксюоль[668]. Хотел было распорядиться об устройстве в Куртенгофе[669] главн[ого] перевяз[очного] пункта и постановки здесь постоянно состава вагонов для заборки накопляющихся раненых, но этот план оказался неосуществимым, т[а]к к[а]к железн[ая] дорога здорово обстреливается почти вплоть до Лидака[670]. Ходят слухи, будто немцы заняли остров Эзель[671]. […]
4 апреля. […] Заглянул к командиру — скучает от безделья; поговорили с ним — не из орлов! А совсем «божья коровка». Согласился со мной, что не сдвинуть нам гранитной скалы немецких армий, и главную причину нашей немощи усматривает он, помимо сравнительной скудости в снарядах, в недостатке управления, сказавшемся, напр[имер], в мартовских боях, когда, занявши три линии немецких окопов, мы не могли развить дальнейшего успеха вследствие охватного движения тевтонов, чему мы не сумели противопоставить своего охвата. Все старые песни! Личный его адъютант — типичный немец, скверно владеющий русской речью.
Поздоровался со мной сегодня приветствием «гут морген», но спохватился и, сконфуженный, стал передо мной оправдываться… «Славный семеновец» твердо держит нос по ветру, откуда несет «жареным», под невысказываемым, конечно, лозунгом — «все для меня, все для моих удобств и карьеры»; тяготы войны не чувствует; чем больше она продлится, тем ему будет лучше; живет барином, к его услугам сотни лакеев, совсем забрал в руки безвольного старика Третьякова[672]. […]