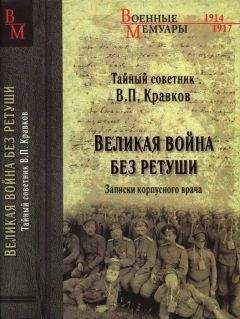15 февраля. […] Только что возвратился из бани — приехал командующий армией Горбатовский, высказавший желание, ч[то]б[ы] мы поскорее двигались на Митаву[639]; завтра, сообщил он, с вечерним поездом прибывает Куропаткин, к[ото]рый дня 2–3 употребит на объезд позиций. Очень рад буду его видеть.
16 февраля. […] Вечером приехал Куропаткин. Прав я был, высказавши еще в начале кампании уверенность, что наступит момент, когда и Куропаткин еще выдвинется на сцену! […]
17 февраля. Днем жестокая артиллерийская пальба по аэропланам, а также со стороны Далена. Стол в штабе обжирательный; сегодня ели блины со всеми онерами и атрибутами. В штаб корпуса назначен на должность старшего адъютанта штабс-капитан Соколов — георгиевский кавалер. За столом я неосторожно спросил его, не из раненых ли или контруженых он — получил отрицательный ответ; значит, попал к нам по протекции. Ох уж эти все георгиевские кавалеры: как только получат белый крестик — сейчас же обнаруживают центробежную тенденцию устроиться куда-н[и]б[удь] подальше от огня, а, казалось бы, им бы более, чем кому другому следовало оставаться на позициях для подбодрения и воодушевления наших «серых» воинов, по своему составу ныне особенно нуждающихся в настоящих руководителях! […]
19 февраля. Объехал части 121-й дивизии, находящиеся еще в стадии творения, а между тем — готовится переход в наступление. Не ожидаю я от него ничего хорошего; не вышибить нам немцев из занятых ими позиций! […]
20 февраля. Побывал в этапном лазарете Красного Креста и в больнице Всероссийского союза городов; прекрасное впечатление произвела на меня последняя, состоящая в заведывании женщины-врача Кадыш, местной жительницы-латышки, успевшей уже побывать и в плену у немцев. Живая, достоверная для меня свидетельница, утверждающая варварское обращение тевтонов с русскими; оказывается, что сыны фатерланда не чужды были и русской слабости — поддаваться умягчающему влиянию лиходеяния и взятки!
Сегодня на блины к нам в штаб прибыл Радко-Дмитриев и начальники дивизий. Профиль и фигура первого удивительно напоминают Наполеона. На нашем фронте, сказал он, теперь не больше 60 батальон[ов] немецких ландверов, подходящий бы был для нас момент перейти в наступление, сели бы «не было у нас грехов»… […]
21 февраля. «Прощеный день», воскрешающий так много светлых воспоминаний из прошлого… Познакомился с уполномоченным Всероссийского] союза городов. Как много сравнительного простора и гибкости в деятельности этих живых организаций, и какой мертвечиной перед ними являются наши военно-санитарные учреждения! Бессмысленная бюрократическая писанина вынула из них и душу, и сердце! […]
22 февраля. С командиром корпуса съездил в зоологический сад. Восторг и упоение! Как все здесь хорошо! На всем лежит печать немецкой руки.
Преотвратительную разновидность человеческую представляет «семеновец» цинической развязностью в проявлении своего тупоумия и узколобости; Шингарева, Милюкова[640] и В. Маклакова считает самыми опасными революционерами, могущими «погубить дорогое ему отечество»!! С этим сукиным сыном надо быть поосторожнее. Его рассказ о том, как он тщетно отыскивал в Петербурге для своих детей гувернантку, которая могла бы «патриотически» воспитать их!.. Уши вянут от диких рассуждений сего ихтиозавра…[641] […]
26 февраля. […] Виделся с коллегой Никитиным — корпусн[ым] врачом 7-го Сибирск[ого] корпуса; Господи, Боже мой, какой я перед ним в житейском обиходе младенец! Сколько у него возвышенного самочувствия от сознания, что он корпусной врач, да еще протеже великой княгини Елизаветы Федоровны; в упоении своим величием сей от природы хлыщ и хам считает непременным долгом проявлять себя в отношении подчиненных так, ч[то]б[ы] перед ним трепетали; упрекал меня за слишком-де деликатное мое обращение с заведующей заразной больницей г-жей Кадыш, к[ото]рая-де перед ним всегда с испугу (выразился нецензурно далее…). Я ему на это высказал свой принципиальный] взгляд, что в настоящее тяжелое время мы, начальствующие лица, должны действовать для пользы дела не террором, а лаской и любовью, да и не забывать ни на минуту, несмотря на наши чины, что мы прежде всего врачи — друзья человечества. Мне кажется, что с еще большим повышением по иерархической лестнице я еще больше бы был с людьми прост и мягок. […]
27 февраля[642]. […] После ужина много беседовал на текущие политические темы с корпусн[ым] командиром и славным «семеновцем»; высказывал я свои мнения довольно сдержанно, больше, собственно говоря, слушал, стараясь лишь втянуть их в обмен мыслей; славный «семеновец» считает за истинных патриотов таких, как Марков 2-й[643], и рассуждал[644] в духе «Прусского знамени». Корпусной командир осторожно ему оппонировал; в беседе же со мной tête à tête[645] выявил себя, как я и ожидал от него, вполне прогрессивным человеком. Отрадный, к сожалению, редкий положительный тип русского генерала!
28 февраля. День моего тезоименитства. Пошел в кафедральный собор к обедне, к[ото]рую должен был служить высокопреосвященный Иоанн[646]. В храме было благолепно: пели довольно хорошо, слышались все рязанские мотивы; давно не слышал такого отличного исполнения «О Тебе радуется всякая тварь…» Из высших особ в церкви был[и] я да Радко-Дмитриев, остальные все солдатики да средняя публика; […]
Жизнь в штабе у меня идет хорошо — по-семейному, дружелюбно, благодаря, конечно, наличию такого командира корпуса, к[а]к Долгов — человека весьма благородного, гуманного, просвещенного, культурного, которого я полюбил и глубоко уважаю; он весьма здраво смотрит на вещи и сознает необходимость во благовремении теперь же дать России и ответственное министерство, и ослабить полицейскую опеку и проч. в духе прогрессивного блока — вообще выполнить высочайший Манифест 17 октября! А иначе, согласно думаем мы с ним, Россию ожидают в недалеком будущем ужасные потрясения. […]
29 февраля. […] Формирование корпуса идет черепашьим ходом. Большой некомплект у меня врачей, фельдшеров и полное отсутствие военно-врачебных заведений; помилуй Бог, если начнутся теперь бои, много придется изведать горя. А устроились мы в Риге, как будто рассчитываем прожить здесь целый год; славный «семеновец» в стремлении к комфорту устроил при штабе парикмахерскую чуть ли не с маникюрами и педикюрами! Быть для нас большой беде! При единоборстве дезорганизованности и неподготовленности с образцовой организацией и подготовкой — в чем могут быть шансы победы нашей растяпости над планомерной тевтонской методичностью и систематичностью[647]? В чем?
1 марта. […] Нахожусь вдали от штаба армии, не вижу «пира во время чумы». Чувствую себя благостно, нервы мои совершенно окрепли. С командиром корпуса установились отношения, не оставляющие желать лучшего. Бессмысленно меня не дергают; ни со стороны его, ни со стороны окружающих не испытываю наглого желания всецело тебя поглотить. […]
2 марта. В связи, очевидно, с событиями под Верденом зашевелились у нас, на Рижском фронте. Корпус же мой совершенно еще не боеспособен — нет еще необходимого]: обоза, лошадей и проч. оборудования. Не жду ничего путного от нашего наступления. Немцы мне представляются непобедимыми; обстоятельства все так складываются, что они с нами и нашими союзниками ухитряются расправляться по отдельности. Францию Германия победит как более сильная военно-культурная держава; Россию же победит как более сильная культурно-военная держава! Так говорит здравый, по-видимому, смысл.
Немцы по нам теперь стреляют из наших пушек и нашими снарядами. […]
4 марта. Сегодня в Риге был командующий армией, вчера же в Вендене — главнокоманд[ующ]ий. Готовится с нашей стороны наступление, громче заревут пушки и рекой польется «серая» кровь. Сыграем, вероятно, опять в «короткий, но сильный удар», иначе говоря — стукнемся носом о стену. Печально взираю на предстоящий эксперимент, не сулящий торжеств русскому оружию. Больно уж у нас все первобытно, у противника же — все усовершенствовано! […]
5 марта. Погода кислая-раскислая. Туман утром. Не сегодня-завтра начнется бойня. 120-я дивизия двумя отрядами стала на позиции, 121-я пока в резерве; завтра еду по полкам. Вечером пошел за компанию с корпусным командиром в кинематограф посмотреть комедию-фарс. Прекрасное помещение, отличный струнный оркестр. За городским гомоном глухо слышалась артиллерийская пальба. […]