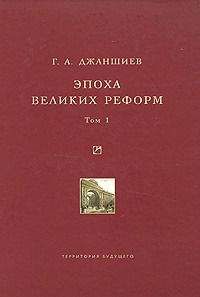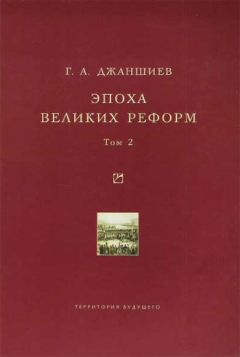Самою горячею защитою жестоких телесных наказаний ознаменовал себя архаический гр. Панин. Трудно сказать, чему следует приписать такой образ мыслей министра гр. Панина: его общеизвестной черствости, жестокости[448], его безграничному презренью к «подлому» народу или слепому благоговению пред существующею рутиною[449], или всем этим свойствам вместе взятым. Но история передает тот назидательный факт, что в то время как представители самых жестоких видов юстиции – военной и морской – отказывались от шпицрутенов и кошек, не стесняясь требованиями суровой дисциплины, представитель мирного гражданского ведомства считал невозможным расстаться с клеймением, с шпицрутенами, плетьми, даже по отношению к женщинам. С отменою телесных наказаний, по мнению гр. Панина, установилась бы полная безнаказанность для народа. «Телесное наказание, – писал он, – как самое физически чувствительное, вполне понятно простолюдину, и, не имея (sic) и потеряв нравственное достоинство, преступник сознает в телесном наказании чувствительное возмездие за совершенное им злодеяние[450]. В народном понятии телесное наказание есть единственное наказание, возбуждающее страх, и отмена разом вовсе сего наказания в грубых понятиях некоторых преступников и их среды была бы равносильна отмене всех уголовных наказаний». Возражая против освобождения женщин от телесного наказания, гр. Панин рассуждал: что касается до нравственного посрамления женщины при ее обнажении для наказаний, то женщины совершают часто преступления, обнаруживающие еще более (?) разврата в лицах, к их полу принадлежащих, чем в мужчинах, или позволяют себе действия, явно свидетельствующие об отсутствии всякой стыдливости. Развивая свою богатую мысль, гр. Панин писал: «Любовник (sic) застал любовницу в объятиях другого, голодный вор взял не кусок хлеба или копейку[451] на попойку, а все состояние своего благодетеля – можно ли принять в уважение, что в них не погасло чувство стыдливости» (sic)[452].
Соглашаясь на перенос клейма[453] с лица на плечо и как бы сокрушаясь о невозможности восстановления «рвания ноздрей, возбранявшего преступнику навсегда возможность возвратиться в общество», гр. Панин полагал восстановить по крайней мере, отмененное еще законом 10 ноября 1858 г., бритье головы, в конце концов настаивал на сохранении и плетей и шпицрутенов.
Сопоставляя эти вопли «жестоковыйных» фарисеев, «порицавших всякое нововведение и похвалявших все старое», с их предшественниками в XVIII столетии, сенатор Д. А. Ровинский замечает: «Кнутофилы 1861 г. точно так же, как их собраты 1767 г., при отмене плетей и розог вопили нестройным хором прежнюю песнь, что теперь-де никто, ложась спать вечером, не может поручиться, жив ли встанет поутру, и что ни дома, ни в постели не будет безопасности от злодеев, и что к этим вопителям прибавились еще другие, которым померещилось, что-де всякая дисциплина с уничтожением шпицрутенов рушится; всуе смятошася и вотще прорекоша! Мир и тишина остались и в доме, и в постели; спать даже стали больше и крепче прежнего».
Словом, для этих ветхозаветных консерваторов, «неисправимых» крепостников, не существовало «прихода жениха», для них прошло совершенно бесследно наступление 19 февраля —5 марта 1861 г., зари новой жизни; остался непонятым смысл великого и утешительного факта благополучного освобождения крестьян, так красноречиво доказавшего, с одной стороны, политическую недальновидность рутинеров-консерваторов, а с другой – изумительный такт и благодушие оклеветанного ими русского народа[454].
К счастью, старческие трусливые вопли и фарисейские причитания брюзжащих мнительных, одичалых крепостников, как и при крестьянской реформе, были заглушены гуманным направлением молодого поколения, господствовавшим в начале 60-х гг. в общественном мнении и частью в правительственных сферах. Сам министр внутренних дел П. А. Валуев, сменивший в апреле 1861 г. в качестве представителя консервативного начала либеральное министерство С. С. Ланского и Н. А. Милютина, выступил решительным сторонником отмены телесных наказаний. «Положение человека, совершившего преступление, – писал министр внутренних дел ст. – секр. Валуев, – есть положение ненормальное, только не в физическом, а в нравственном смысле, а потому и приведение такого человека в нормальное состояние, т. е. исправление преступника, должно быть не физическое, а нравственное. Здесь полезнее всего уметь заставить преступника почувствовать всю гнусность и вред преступления, вызвать в нем сожаление о потерянных чрез преступления преимуществах в жизни человека честного, а вместе и раскаяние в совершенном преступлении. Телесные же наказания скорее ожесточают, чем исправляют».
Но самыми убежденными и сильными противниками телесных наказаний выступили гуманные юристы: обер-прокурор московских департаментов сената Н. А. Буцковский и тогдашний московский губернский прокурор (впоследствии сенатор) Д. А. Ровинский (см. дальше). Последний рядом статистических данных и бытовых соображений, взятых прямо из судебной практики, доказывал безусловную необходимость отмены телесных наказаний и полную возможность при некоторых усовершенствованиях тюремных и следственных порядков немедленной замены их заключением в существующих тюрьмах[455].
Н. А. Буцковский, в свою очередь, подробно разбирает все доводы защитников телесных наказаний для простого народа или усиления для него в случае отмены плетей и розог в видах равномерности срока ссылки. Этот человеколюбивый и просвещенный судебный деятель, так много поработавший как по составлению Судебных уставов, так и по применению их наделе[456], со всею силою своего опыта и деятельного гуманизма выступил против провозглашенной его принципалом гр. Паниным теории о необходимости усиления наказания для лиц «податного состояния». Считая вполне справедливым, чтобы суд, по возможности, определял меру наказания, сообразуясь с индивидуальными особенностями подсудимого, Буцковский считал вопиющей несправедливостью определять наказания не по этим конкретным обстоятельствам данного дела, а по формальному признаку принадлежности к тому или другому привилегированному сословию[457].
Вопреки мнения г. Панина, полагавшего, что простолюдину «нечего терять» при лишении прав состояния и ссылке в Сибирь, а потому проектировавшему добавку наказаний, Буцковский заявлял, что и простолюдин теряет в ссылке семейственные и имущественные права, связь с родиной, с близкими и пр. Если же принимать во внимание различие общественного положения, то, по мнению Буцковского, следовало, по справедливости, взять масштаб, обратный рекомендуемому гр. Паниным. «Из двух лиц, совершивших одинаковые, не только по материальному вреду, но также и по свойству злого умысла, преступления, кто более виновен, – вопрошает Буцковский, – тот ли, кто посягнул на это преступление при полном свете разума, развитого образованием и укрепленного воспитанием, поправ в своем стремлении к злу все эти духовные силы, или тот, кто всю жизнь бродил впотьмах невежества и был столько же беден духовными силами, сколько богат силами физическими? Ответ на этот вопрос может дать, – говорит Буцковский, – ст. 144, п. 2 Улож., по которой наказание тем более увеличивается, чем выше состояние, звание и степень образованности преступника. Вот правило, – продолжает Буцковский, – пред которым нельзя не благоговеть, как пред святою истиною; но вместе с тем нельзя не пожалеть, что правило это при существовании несоответствующих ему других определений уголовного законодательства сделалось почти мертвою буквою, и что на самом деле необразованные простолюдины подвергались доселе более строгим наказаниям, чем лица высших сословий, получившие более или менее полное образование. Неужели эта непоследовательность в нашем уголовном законодательстве не только повторится, но и усугубится в настоящее время, когда есть возможность исправить ее в значительной мере»[458]?
Pium desiderium Буцковского исполнилось, и путь к новым несправедливостям, на которые толкал министр юстиции гр. Панин, был отвергнут Государственным советом, но истинно благочестивое пожелание гуманного юриста «о суде людей в меру данных им талантов» вполне осуществилось лишь с введением у нас суда присяжных, который, отвергнув излюбленную точку зрения ханжей-крепостников, взыскивает много с тех, кому много было дано, а не наоборот, как поступал старый суд.
Одновременно с вопросом об отмене жестоких телесных наказаний был поставлен на очередь и вопрос об отмене легких или розог как в судебном, так и в административном порядке. Говоря о последнем, великий князь Константин Николаевич писал: «Наши полицейские чиновники привыкли так легко смотреть на побои простого народа, а высшие местные власти смотрят по большей части с такою легкостью на эти злоупотребления, что каждый из них считает себя вправе употребить розги и побои, когда ему вздумается». Единственным средством для искоренения этого застарелого зла великий князь признавал предание суду виновных за своеручные расправы[459]. Шеф жандармов кн. В. А. Долгоруков и тот даже заплатил дань молодому либерализму и со своей стороны признавал возможным полную отмену розог на всех ступенях, высказав, что кратковременный арест производит несравненно более сильное впечатление, чем розги (н. Свод, 74).