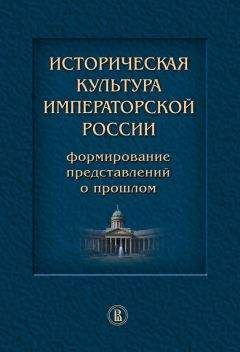на кресте», поучал король [500].
В Крестовых походах нашли свое полное выражение мировоззрение короля-святого и его уникальная личность воина и страстотерпца. «Принятию креста» предшествовало приобретение в 1239–1241 гг. реликвий Страстей Господних – сначала тернового венца, затем – фрагментов Истинного Креста (распятия), губки, из которой палачи поили Христа уксусом, и наконечника пронзившего его копья. Второе приобретение обошлось королевской казне в 135 тыс. турских ливров (по другим данным 100 тыс.). И гораздо меньше, 40 тыс. ливров ушло на сооружение Сент-Шапель. Поражающее теперь соотношение цен и ценностей! [501]
Молодой (25 лет) король приобретением священных реликвий являет себя образцом благочестия перед всем христианским миром. Обретение общепочитаемых атрибутов святости делает Францию подлинно Святой землей, утверждал сподвижник короля архиепископ Санса. Что могло быть достойнее для христианского короля?
Крестовые походы становятся уже анахронизмом. Происходит «революция сознания»: каждый христианин мог открыть в собственной душе подлинный Град Божий, так что отвоевание земного Иерусалима утрачивало свою злободневность. Всему окружению Людовика IХ, включая королеву-мать и исповедника-епископа, понятно, что теперь главная задача христианского короля – «надлежащим образом править своим королевством, холить свое физическое, а заодно и политическое тело и оставаться со своими подданными» [502].
Даже наперсник короля Жуанвиль исповедует новые принципы, что истинно богоугодными являются порядок в стране и материальное благополучие ее жителей, и наотрез отказывается участвовать в новом Крестовом походе, внушая патрону: чтобы совершить богоугодное дело, лучше остаться, чтобы опекать и защищать свой народ. Напротив, отправившись в Крестовый поход, король «прогневил бы Бога, который отдал свое тело во спасение своего народа» [503].
Однако Людовик остается глух к подобным доводам. Что же им движет? Прежде всего обет, принятый во время очередного тяжелого заболевания, а также апокалиптическое видéние, навеянное, очевидно, известиями о возникновении Монгольской империи и движении кочевников в Европу. «Да укрепит нас, матушка, Божественное утешение, – говорил он матери. – Ибо, если нападут на нас те, кого называем мы тартарами, то или мы низвергнем их в места тартарейские, откуда они вышли, или они сами всех нас вознесут на небо». Иными словами Людовиком двигало «эсхатологическое», по выражению историка, понимание своего предназначения [504].
Людовик был буквально одержим духом миссионерства, страстью к обращению иноверцев, коя сопрягалась у него с устроительной мечтой о мировом порядке. Ему, пишет Ле Гофф, «виделся бескрайний христианский мир – от самых западных границ Европы до Иерусалима»; этот город, вместе со Святой землей и остальным библейским пространством, и требовалось отвоевать у мусульман. Целью такой «реконкисты» было не столько изгнание «неверных», сколько принуждение их к принятию истинной веры как основания, говоря современным языком, нового мирового порядка. Как предводитель христианского воинства в Крестовом походе король видит себя «rex pacificus, творцом мира на земле, мира эсхатологического, прообраза вечного мира» [505].
Мироустроительная задача казалась тем более выполнимой, что ислам на средневековом Западе не считался религией и мусульмане слыли «язычниками». Для самого Людовика Мухаммед был чародеем, «кудесником», а Коран – «собранием непристойностей». Согласно хронисту-современнику, находясь в плену во время своего первого Крестового похода, Людовик объявляет султану Египта: «У меня и в мыслях не было вернуться во Французское королевство прежде, чем я добуду Господу вашу душу и души других неверных» [506].
Стойкость сопротивления мусульман, с которой он столкнулся в первом походе, отнюдь не ослабила его миссионерского пыла. Король и его духовные советники задумались в это время об обращении всего Востока, в том числе монголов, которых вновь стали именовать не «бичом Божиим», а «добрыми язычниками». «Неведомый, безграничный Восток открывался не власти, но миссии христиан» [507], – комментировала выраженный посланниками монгольского правителя интерес медиевист старой петербургской школы. Человек дела, Людовик в ответ на визит ханских посланников отправляет в глубины Азии двух монахов-миссионеров, снабжая их переносной часовней с вытканными на алом сукне сценами Благовещения, Рождества, Крещения, Страстей Господних, Вознесения и Сошествия Святого Духа [508].
Ле Гофф назвал Людовика «королем без географической карты» [509]. Святому королю она была не нужна: мир короля был идеально одномерен. Повсеместно должно было господствовать христианское учение в той версии, что утверждена Святым престолом. Теологические споры с иноверцами и инаковерующими сводились к профанации: истина заведомо была известна.
«Преследуй всеми силами еретиков и обидчиков твоей земли, – наставлял он сына, – спрашивая, как то требуется, мудрого совета добрых людей, чтобы очистить от еретиков твою землю» [510]. А советчиками для короля в подобных вопросах были «братья» из нищенствующих орденов, служившие Святой инквизиции. Сам Людовик редко проявлял инициативу в репрессиях, но неизменно поддерживал карательные действия Святого престола [511].
Страх перед «пагубой греха», угрожавшей спасению души, неизменно руководил поведением короля. А его представление о грехе было имманентно-наивным, о возмездии – удивительно натуралистическим. Людовик предостерегает сына, что, совершив грех, тот обречет себя на безмерные физические страдания: «Тебе отрубят ноги и руки, и ты расстанешься с жизнью в жестоких мучениях». Характерен и вопрос, который он задавал Жуанвилю – что бы тот предпочел: «стать прокаженным или совершить смертный грех?» [512].
В собственном королевстве Людовик руководствовался принципом «обращение или изгнание, интеграция или исключение» [513], а наиболее отчетливо этот принцип был выражен по отношению к иудеям. Король всячески поощрял их обращение, порой самолично выступая в качестве крестного отца. И одновременно прибегал к угрозам. При нем прошел «процесс над Талмудом» (1240), завершившийся приговором о публичном сожжении священных рукописей, конфисковалось имущество евреев и издавались указы об их изгнании (впрочем не выполнявшиеся). В ордонансе 1269 г. евреям предписывалось нашивать на одежду кусок материи алого цвета (инициатива принадлежала Иннокентию III).
Знаменитым стало переданное Жуанвилем речение короля: «Никто, разве только очень хороший клирик, не должен спорить с ними (иудеями). Но мирянин, услышав клевету (!) на христианский закон, должен защищать его только мечом, вонзая его в живот да поглубже» [514]. Вместе с тем в правление Людовика евреям не инкриминировались «ритуальные убийства», а когда произошел единственно известный погром, король распорядился арестовать виновников (правда, по настоянию папы) [515].
«Нет ничего более простого, ясного исторического явления, чем крестовый поход», – написал в середине ХХ в. биограф Людовика IХ. Крестоносцы «стремились лишь к одному – вырвать Иерусалим, Гроб Господень из власти язычников» [516]. Да и король использовал подобные доводы, взывая из Святой земли к помощи своих подданных: «Поскольку все, кому имя христиане, должны ревновать к начатому нами делу, и особенно вы, потомки тех, кого Господь поставил народом, избранным для завоевания Святой земли, которую вы должны считать вашей собственностью (курсив мой. – А.Г.)»