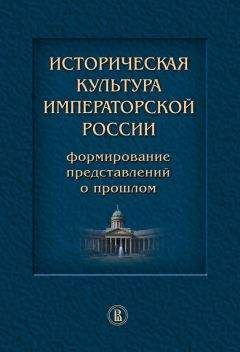href="ch2-517.xhtml#id325" class="a">[517]. Такое вот любопытное развитие темы «избранного народа» в духе раннего колониализма!
Однако, если следовать Ле Гоффу, Людовик Святой шел в Иерусалим не для завоевания места Страстей Христовых, а чтобы «попытаться стать Христом» [518]. Страсти Христовы одухотворяли его поведение и впоследствии сделались архетипом его культа. В житийственной литературе настойчиво проводилась мысль, что жертвенность и мученичество крестоносного пути превратились в «крестный путь» короля.
Физические и духовные страдания, изнурительная и унизительная [519] болезнь, которая неоднократно приводила его к порогу смерти, страх перед морской стихией, гибель тысяч соратников и потеря близких, поражения и плен, приступы бессилия и, в конце концов, почти полная неспособность к самостоятельному передвижению [520] – ничто не могло остановить Людовика. в его стремлении пожертвовать собой во имя Христа. «Жертвой во Христе» назвал его смерть сопровождавший короля до конца исповедник Людовика Жоффруа де Болье. Уверяли, что (находясь за тысячи километров от Голгофы) он, приходя в сознание перед кончиной, повторял: «О Иерусалим! О Иерусалим!» [521] Дух Людовика был до последних мгновений устремлен к месту распятия Спасителя.
«На этом лице, но, кажется, только на нем одном, еще сияет свет того одушевления, которое двигало крестоносцев на Восток» [522], – заметила О.А. Добиаш-Рождественская. А Гарро, храня верность агиографической традиции, заключил, что Людовиком двигала скорее заинтересованность «в духовном спасении людей, нежели в управлении ими» [523]. «Более побед и богатств… его славой стала его стойкость в болезни, в плену, при поражении и в скорби. Король-Христос, память о котором объединяет в неразрывном единстве политический смысл и религиозное чувство, превратил страдание и в орудие личного спасения, и в политический успех (курсив мой. – А.Г.)» [524].
Между тем собственно культ короля-святого в его современном (см. Гарро) виде – явление довольно позднее: по оценке Колет Бон, он утвердился не ранее ХVII в. [525] Дело в том, что существовала и другая традиция, на нее опирается, в частности, Дюби, противопоставляя святому королю его деда Филиппа II Августа, в деятельности которого отмечает более удачное сочетание религии и политики во славу Франции. Целый ряд авторов XV–XVI вв., развивавших те аргументы, что приводились даже доброжелательными современниками (Жуанвиль, Матвей Парижский), негативно оценивал крестоносную активность святого короля. В столкновении двух традиций – поиск ответа на вопрос, что приоритетнее – национально-государственная консолидация или вселенско-эсхатологические побуждения?
«Король Св. Людовик, – писал поэт и историк XV в. Жорж Шатлен, – дважды или трижды терпел конфуз в Сирии, тиранствовал, мучительстовал, он и его рыцари, обагренные и умывшиеся кровью, захлебнулись в своей собственной и оказались в плену». Впрочем, были и те, кто в ту же пору подчеркивал значение походов Людовика IХ для престижа страны, воспевая их как грандиозную всемирно-историческую победу: «При Св. Людовике слава Франции достигла Африки и Востока. Он подчинил Восток, Палестину, Аравию и Карфаген… Он разрушил город Ганнибала – победителя Рима. Он разбил нубийцев, мавров и гетулов, наложив на них дань и обязательство свободного проповедования христианства» [526].
Отдельные французские правители пытались (или объявляли о намерении) следовать Людовику IХ. Среди них Филипп IV Красивый (1285–1314). «Государь благочестивый, но жестокий и хитрый» [527], по лаконичной аттестации Гарро, он остался в церковно-государственной традиции Франции, кроме противоборства с папой, завершившегося «Авиньонским пленением» (см. выше), двумя сомнительными, с точки зрения современной историографии, деяниями: «великим изгнанием евреев» (1306) и истреблением тамплиеров (1314). Одни историки подчеркивают набожность короля, другие видят в нем организатора политических процессов. «Жестокость и святость» – две «противоречивые и взаимодополняющие тенденции» его правления [528].
Символичный итог «благочестивой» деятельности Филиппа IV – «скандал Нельской башни». Происходившие в башне интимные развлечения снох короля, жен правивших впоследствии Людовика Х, Филиппа V и Карла IV были представлены государственным преступлением. Любовников оскопили, с них заживо срезали кожу и, обезглавив, повесили. Принцесс, кроме жены Филиппа Жанны, сумевшей после приговора доказать королю свою невиновность, а точнее, невинность, заточили в Шато-Гайяр, где одна по прошествии нескольких лет погибла от холода, а другую, скорее всего, задушили. Тех, кто содействовал преступным встречам или только знал о них, после пыток, зашив в мешки, бросили в Сену.
То была эпоха, когда жестокость наказания становилась лучшим свидетельством его справедливости, и потрясенный народ «склонен был верить, что принцессы, из коих самая молодая была еще ребенком, стали в самом деле жертвами колдовства», – заметил Гарро. Суть королевской жестокости объяснялась между тем борьбой Филиппа за легитимность своего правления. И то была проблема по преимуществу политическая: принцесс обвинили в том, что они «опозорили королевство», а их любовников в «предательстве». «Чистота нравов Капетингских королей долго вызывала восхищение христианского мира» [529], укрепляя международный престиж Франции и сакральность короны. Теперь и тому, и другому был нанесен непоправимый урон, и случилось это в самый неподходящий момент.
В конфронтации Филиппа IV с папством за контроль над доходами французской Церкви королевская пропаганда энергично разрабатывала тему религиозной избранности королевства. При Филиппе термин «христианнейший» был принят в качестве официального титула короля Франции. Борясь за самостоятельность местной Церкви, король подчеркивал особую связь страны с Богом, и уверял, что в столкновении с Папским престолом «вся истина и справедливость сосредоточены во Французском доме» [530].
Была и более конкретная подоплека жестокого наказания. Колет Бон указывает на ту самую «великую идеологию крови», которая становилась проблемой легитимного наследования власти: эта проблема для Капетингов так и не была решена до конца (см. гл. 3). Сакральность реймсского помазания и священные реликвии из Сен-Дени, как подчеркивает историк, отнюдь не замещали более древние, «языческие» представления о легитимности наследования. Пропаганда Филиппа IV уверяла, что от самого троянского царя Приама в жилах правителей Франции текла «святая кровь королей» и среди 48 коронованных преемников не было ни одного бастарда. Чистота крови оказывалась фундаментальным основанием права наследования, вскоре Столетняя война подвергла этот принцип суровому испытанию.
В том же 1314 г. Филипп Красивый умер, по выражению Гарро, «сломленный позором, постигшим его семью» [531]. Дюби утверждал, что в произошедшем «проявилась жажда наслаждений, овладевшая высшим обществом после смерти Людовика Святого», и что моральный урон имел долговременные последствия. Историк советовал задуматься о роли, которую могли сыграть прегрешения снох Филиппа IV в последовавших злоключениях Столетней войны [532].
Она разразилась уже при династии Валуа (1328–1589). По военной необходимости новой династии пришлось переместиться в долину Луары (отсюда название «королевство в Бурже» – город, где обосновался дофин и будущий король Карл VII), и Париж со своими святынями (включая Нотр-Дам и Сент-Шапель) и аббатство Сен-Дени с королевским некрополем оказались под властью