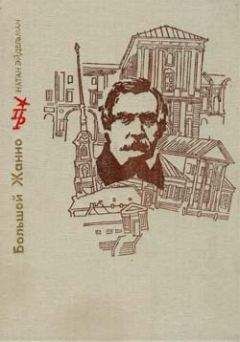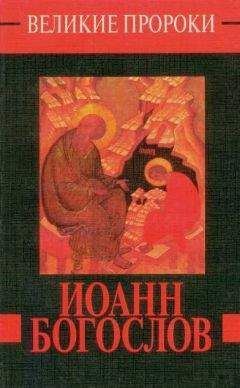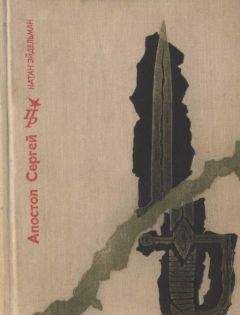Рассказывая вам подробно о капитане Беляеве, добром моем знакомом, я, кажется, посетовал на его единственный недостаток — на его отсутствие. Некоторые из наших страдали от одиночного режима пуще, чем от любой пытки. Не могу, впрочем, этого о себе сказать, имея немало постоянных собеседников. Прежде всего — самого себя; королей и императоров тоже оказалось много больше, чем я полагал спервоначалу. Хорошо и медленно прошелся по древним, но конечно же — с особенным тщанием — по российским. Однажды с утра я заладил с Рюриком, несколько замялся после Владимира Мономаха. Дальше совсем легко — по великим московским князьям и царям; а как до императоров дошел, то встал во фрунт, затем и на голову встал для гимнастики — выкрикиваю: Ее императорское величество Анна Иоанновна, с 1730-го по 1740-й! Е. и. в. Иоанн Антонович, с 1740-го по 1741-й! Е. и. в. Елизавета Петровна! Петр Федорович! Екатерина II Алексеевна! Е. и. в. Павел Петрович царствовал с 7 ноября 1796-го по 11 марта 1801-го!
Как раз на Павле Петровиче дверь отворилась, и Лилиенанкер нашел меня в позиции обратного перпендикуляра или — в просторечии — ногами вверх.
На этого шведа-надзирателя Бестужев Михаил долго грешил, будто он глухонемой: ни звука, объясняется только жестами, старости неопределенной; есть такие фигуры, возраст которых умещается в любом месте меж 40 и 70. Говорили, будто он совершил какое-то тяжкое преступление и был вместо кандалов назначен надзирать в крепости, а затем на этой должности и прижился.
Поэтому я немало смутился, услышав впервые его голос и довольно правильную русскую речь:
— Простите, сударь, вы кричите очень громко, и я вынужден вам заметить, что император Павел Петрович скончался не 11 марта 1801 года, как вы изволили воскликнуть, но 12 марта того же года.
Разговорившись, глухонемой не желал остановиться:
— Я стоял во внешнем карауле той ночью и видел, как Бенигсен и Зубовы пришли во дворец. Незадолго пред тем пробила полночь, шум начался примерно чрез полчаса, а около часу или даже несколько позже граф Пален поздравил нас с новым императором Александром Павловичем.
Все царствование Павла, сударь, продолжалось точно, как предсказал Авель, 4 года 4 месяца 4 дня и 4 часа.
Я продолжал слушать странного надзирателя с растущим любопытством. Точная длительность павловского правления была именно такой, как он сказал. Я слыхал, разумеется, и о прорицателе, однако, для поощрения своего собеседника, сделал вид, будто узнал это громкое имя в первый раз.
Надзиратель поведал Ив. Ив-чу о монахе Авеле, которого несколько раз привозили в крепость за его смелые прорицания, а затем освобождали, ибо все предсказания будто бы сбывались. Лилиенанкер утверждал, будто советовал монаху себя укоротить и не открывать своих видений, а тот отвечал: «Хоть раз совру — свой дар утрачу».
Позже товарищи мои по казематам долго мне не хотели верить, когда я им передавал беседу со шведом, ибо никто так и не услышал от него двух слов; только Якушкин спас мою репутацию: оказывается, и он успел однажды разговорить молчальника насчет религиозных идей и узнал, что г-н Лилиенанкер являет собой особенный тип суеверного атеиста, ибо решительно отрицает бога-отца, сына, святого духа, но верит в черную кошку, подкову и зайцев, дорогу перебегающих, еще сильнее, чем Александр Сергеевич Пушкин.
Вот, Евгений, отчет о моем первом собеседнике или, если посчитать меня самого, — так о втором.
Но Никита Козлов все не едет, и я продолжаю рассказ о моей нескучной тюрьме.
Вскоре я сумел наладить связи с соседями. Началось с несчастной истории Кюхли, о которой уже немного рассказывал.
Вильгельм был в темной болезненной экзальтации — ведь почти единственный из нас (еще и Николай Бестужев, но тут случай особливый), кто догадался удрать, задержан был только в Варшаве и доставлен обратно в необыкновенном смятении духа. Впрочем, и тут выступал неожиданно, не похоже ни на кого — как поэту и подобает. Вот что написал однажды следствию (все от того же Я. Дм. знаю): что, дескать, срочно нужно его, Вильгельма, соединить в одной камере с младшим братом, который, надо думать, совершенно пал духом — и как бы рук на себя не наложил.
В. К. доказывал, что у него, как у старшего, куда больше моральных и нравственных сил, тем более что в одной камере с ним уже находится невидимый утешитель, союзник, опора: это поэзия, литературное воображение…
Следствие было, конечно, изумлено столь неожиданным, может быть, единственным в истории пассажем.
Ах, бедный мой Вильгельм: ведь брат его — «Кюхля морская», Мишель Кюхельбекер — как раз и в крепости, и в Сибири выказывал постоянную твердость характера, веселую, неунывающую натуру. А за моего Кюхлю на первом же петербургском допросе видно крепко Левашов принялся: то ли внушил ему, чего желал, то ли расположил — и Вильгельм вдруг объявил, что не кто иной, как Пущин Иван, сотворил 14 декабря нечто ужасное: когда подъехал к нашему каре великий князь Михаил Павлович, именно я будто сказал Кюхле: «Не желаешь ли ссадить Мишеля?»
И далее следовала замечательная история, составленная из нескольких элементов: во-первых, оказывается, по дороге на площадь Вильгельм вывалился из саней (чему верю сразу же), а в пистолет его забился снег, так что он «точно не мог выстрелить». Во-вторых, Кюхельбекер сказал, что он послушался меня и стал целиться в великого князя, для того будто бы, чтобы «не целились другие»: другие бы непременно убили царского брата, а он, Кюхля, твердо знал, что его пистолет определенно не выстрелит.
В-третьих, матросы гвардейского экипажа будто бы не дали ему выстрелить и отвели руку.
Я оказался в затруднении: ведь обвинение, что я зачинщик в таком деле — серьезнейшее, пахнет виселицей, и надо задуматься (все удивляюсь, как не вспомнили о моей давней ссоре с Михаилом Павловичем: вот бы все и сошлось — Пущин ненавидит великого князя, Пущин — убийца!).
Но самое трудное, друг мой, заключалось именно в том, что я ничего подобного не говорил и не предлагал. 20 лет спустя в Сибири, при первой нашей встрече, я на Вильгельма насел. Говорю, ну как же ты такое сказал, зная лицейскую мою повадку, считая меня одним из лучших товарищей? Как не сообразил — в моем ли духе просить тебя ссадить Мишеля, если сам рядом стою? В моем ведь духе уж тогда самому взять у тебя пистолет и самому бы ссадить, ей-богу…
Кюхля во время той сибирской беседы отмахивался и, кажется, вообще плохо помнил обстоятельства наших давних допросов; я поэтому не стал больше приставать и переменил тему. Но тогда, в 1826-м, худо мне стало после кюхлиных признаний. Повторяю, что, если б я определенно врал (как в истории с капитаном Беляевым), честное слово, много бы легче было. А тут ведь правду говорю, но притом ясно всякому, что это моя правда вянет и мямлит пред кюхлиной уверенностью.
Он четко и сильно повторяет, что именно я показал ему великого князя, сказал: «Ссади…», и дело было б сделано, если б пистолет не давал осечки… А я в ответ длинно, на многих листах, расписываю, что ничего такого не было: что я только поздоровался с Кюхельбекером, увидя старого товарища в каре, что мы обнялись, я ему не помню что, пустяки говорил, и более ничего, — а он скорее всего, смешал эпизоды… Неубедительна, ах как неубедительна бывает самая чистая правда! Конечно, я мог бы отступить и, соврав, заставить себе верить; и прямо-таки подворачивалась правдоподобная ложь, да еще в лицейском духе, что я над Кюхлей подшутил: зная про его неисправный пистолет, дававший осечки; зная, что вернейший способ Кюхле попасть в одного — это целить совсем в иного, даже в другую сторону; зная все это, я имел возможность как бы возродить лицейскую бехеркюхелиаду.
Но как ни весело было на площади и как ни смешон казался там Вильгельм, ей-ей, никогда я не отпускал столь острых и кровью пахнущих шуточек. Позже я узнал, что Кюхельбекер своим огромным пистолетом вообще навел страху на товарищей, и Каховский, отобрав у него на минуту оружие, ссыпал порох. Выходит, и в самом деле над ним смеялись (но без моего участия), а он снова целил, на этот раз в испуганного генерала Воинова, и пистолет осекался в самом деле, потому что ссыпали порох. Добавьте для полноты фона, что Кюхля подслеповат и глуховат, что он никак не мог сообразить, где его мишень, и громко просил Ал. Бестужева: «Покажи, который из них великий князь?»
Я уже перечислял смешные элементы нашей трагедии; вот вам еще подробности: ввиду противуречия моих и кюхлиных показаний нас натурально свели на очной ставке. Вильгельм с поэтическим жаром продолжал доказывать, что именно Пущин ему сказал: «Ссади Мишеля», что «если окажется, Пущин прав — не крепость место мое, а дом безумных!» Я же все отрицал — на этот раз кратко, твердо и спокойно.
Что это происходило, друг мой? На первый взгляд ужасное, непристойное предательство, стремление спасти себя за счет своего, лицейского. Поэтому сперва я просто слов не находил и сильно досадовал. После же сумел себя переломить и от души пожалел своего Вильгельма, и простил, и снова полюбил, и сегодня люблю незабвенного Кюхлю, он по природе своей — во время боя, в необыкновенном возбуждении, порыве, и самого себя не всегда слышал. Так же как он, показывая на меня, не подумал о всех возможных последствиях, — так же признался на тех допросах (хотя его никто не уличал), что 14 декабря пытался убегавших от картечи солдат собрать, воодушевить, повести на противника!