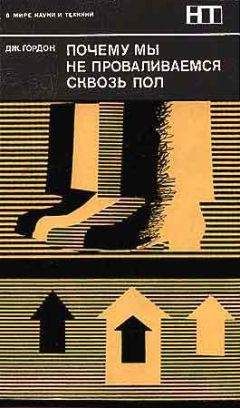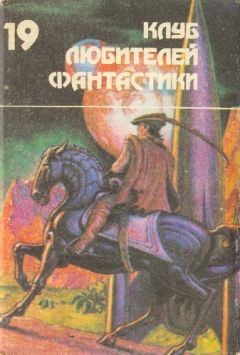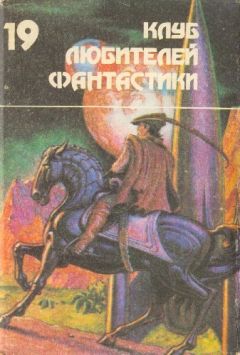в августовском пакте 1939 г., заказ Сталина на подготовку к печати воспоминаний Бисмарка. Актуальность заказа объяснялась, разумеется, советско-германским сближением после названного пакта. И, подобно «Наполеону» Тарле, публикация сочинения основателя Германской империи имела большой с элементами скандальности общественный резонанс, акцентировав сближение с новым Рейхом [708].
Но из воспоминаний историка о встрече с вождем очевидно, что Сталина интересовал и собственно Бисмарк, причем он высоко оценивал личность и деятельность «железного канцлера» [709]. Несомненно, Сталина серьезно интересовали различные исторические персонажи особого, я бы сказал ницшеанского типа, притом, что этот интерес был избирательным и мотивировался нимало политической конъюнктурой. И для удовлетворения своего интереса он обращался к историкам, мнение которых уважал.
К моменту создания своего шедевра Тарле проделал вполне отчетливую эволюцию от демократического республиканизма к имперскому авторитаризму, выражением которой сделалось отношение к Французской революции. Классовому детерминизму Тарле противопоставлял национально-государственный подход, который смог открыто заявить лишь в условиях войны с Третьим рейхом, когда сама партийная идеократия стала эволюционировать в имперско-державном направлении.
В этом общем тренде исторический «ревизионизм» Тарле отчетливо обрел имперскую направленность. «Диалектика требует, чтобы мы смотрели на историю с точки зрения 1944 года», а это означало, по Тарле, пересмотр взглядов на Российскую империю. Ее создание, укрепление и главное – расширение предлагалось считать исключительным благом, притом во всемирно-историческом масштабе [710].
Замечу, государственный патриотизм Тарле доводилось проявлять и раньше. В знаменательный период «сменовеховства» Тарле с либерально-патриотических позиций включился в дискуссию об историческом пути и природе Российской империи, выступив против «известного течения общественной мысли», возводящего экономическую отсталость России «в идеал и усматривающего в ней залог самобытного развития и лучезарного будущего» страны [711].
В период Мировой войны – и особенно после Февральской революции, которую он приветствовал как перспективу обновления России, – Тарле проявляет себя «оборонцем», сторонником войны до победы путем мобилизации всего общества и – во имя «спасения родины и революции» – подавления самыми крайними мерами элементов разложения и саботажа (включая расстрел большевистских агитаторов в армии). Первую причину неспособности Временного правительства к национальной мобилизации он видит в отсутствии патриотизма: «В руководящих социалистических кругах слова “Родина”, “Россия” “освобождение от врага” конфузливо проглатываются» [712].
В отношении террора Тарле руководствовался принципом политической, точнее, государственной целесообразности. Он приветствовал революционный террор, но лишь как государственный и национально-патриотический. И оправдывал якобинский террор патриотическими побуждениями революционеров 1793 г., отделяя якобинскую политику от террористических настроений социальных низов. На «путь кровавых эксцессов и репрессий», писал Тарле, якобинцев «неудержимо толкало» «настроение голодных, озлобленных, подозрительных городских масс». Обеляя якобинских лидеров, он подчеркивал «губительнейшую роль, сыгранную бесчисленными темными и определенно преступными элементами, пристроившимися к террору» [713].
В условиях июльского кризиса 1917 г. Тарле как на панацею ссылался на якобинский террор, на Робеспьера, на «великие тени героев французской революции», которые «не боялись пожертвовать ни чужою, ни своею жизнью, когда считали это необходимым». Будущий академик рекомендовал во имя спасения Родины и защиты революционных завоеваний организовать «суровейшую, нелицеприятную, беспощадную судебную расправу» [714].
Тарле образца 1917 г. был готов, я думаю, к тому восприятию террора как эффективного орудия власти, которое в 1936 г. он выразил от лица Наполеона: «ни одной бесцельной жестокости – и совсем беспощадный массовой террор, реки крови, горы трупов, если это политически целесообразно» [715].
После репрессирования Фридлянда, Старосельского, Лукина, Захера Тарле сделался бесспорным лидером в сообществе советских историков Французской революции и в качестве такового представил советской общественности выношенные им оценки к юбилею Революции, который широко отмечался в Союзе.
Тарле отчетливо приходил к характерному для историков-марксистов 20-х годов «якобинократизму», но в отличие от них у него главенствовали не социальные факторы, а национальные интересы: «Положение было таково, что становилась необходимой диктатура, самая беспощадная, немедленная диктатура. Якобинская диктатура, – доказывал Тарле, – выросла на почве ожесточенного нашествия… не на жизнь, а на смерть войны с интервентами» [716].
Еще одна существенная для автора «Наполеона» деталь – революционная диктатура обозначает себя обузданием масс. Не их политизация и активная роль в событиях революции, как подчеркивалось в ранней советской историографии, а полное подчинение народа революционной власти – вот что означала, по Тарле, якобинская диктатура.
Прообразом оказывалась военная дисциплина: «В чем состояла сущность революционной дисциплины? Сущность ее заключалась в том, что долгом чести, долгом патриотизма в 1792 г. было полное беспрекословное повиновение». Только абсолютное повиновение, только «при самой суровой диктатуре» армии республики выполняют свою задачу, «выгоняют вон интервентов» [717]!
И дальше следовало самое неожиданное добавление к толкованию спасительности революционной дисциплины – может быть самое оригинальное: «Как это ни странно, но в армии из крепостных крестьян – в армии Суворова эта новая дисциплина была более понятной», чем в западноевропейских армиях того времени [718]. Историк мог бы вспомнить суворовские принципы «побеждать не числом, а умением» и необходимость для каждого воина «знать свой маневр»; но нет. Прерогатива «полного беспрекословного повиновения», и уподобление на этой основе революционных армий армии крепостных!
Характерно далее, что Тарле уже в 1917 г. подчеркивал внеклассовый характер якобинского террора, что якобинцы разили, невзирая на социальное происхождение: «Казнили буржуа, крестьян, рабочих, всех, кто противился или путем разных уловок не подчинялся таксации (“закон о максимуме”), казнили, за умышленное незасевание земельных участков, казнили за накопление у себя хлебных запасов свыше нормы, казнили за невывоз хлеба на ближайший рынок, казнили за недопоставку реквизированных для армии продуктов» [719].
С подобных позиций можно, пожалуй, поддержать и начавшуюся в 1928 г. с реквизиций против крестьян ту «чрезвычайщину», что воплотилась в коллективизации. Можно было бы приветствовать и расправу с «голодными, озлобленными, подозрительными городскими массами». На соответствующий поворот большевиков против «улицы» очень надеялась либеральная интеллигенция еще в послеоктябрьские годы, призывая к совместной борьбе с «анархией». И в 1930-е годы как эхо поступательного шествия Диктатуры в исторических, особенно художественных произведениях – наиболее масштабный пример «Хождение по мукам» А.Н. Толстого – намечается знаменательный поворот к изображению гражданской войны в виде борьбы с низовой «анархией», махновщиной, «зелеными» как главным врагом новой власти.
Поворот внешней и «внутренней» эмиграции к «братанию» с советской властью в предвидении консервативной трансформации ее «центра» и появления «великого Мессии», который «по-настоящему взнуздает» «сброд», отметили еще в 20-х годах те, кто в 30-х стал жертвой поступательного шествия Диктатуры [720]. Постреволюционную реставрацию, подобную той, что осуществил коронованный «душеприказчик» революции, основатель французской империи, безусловно ждали – одни страшась, другие надеясь.
Своим образом французского императора бывший представитель école russe подстраивался под распространявшиеся среди советской бюрократии и растущего слоя госслужащих настроения; и общественное восприятие торжествующего режима личной власти, разумеется,