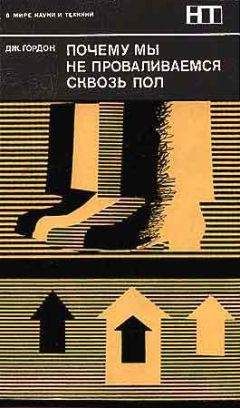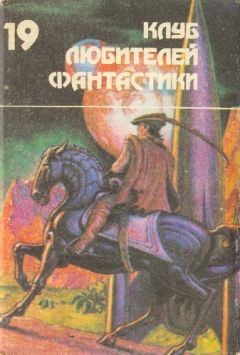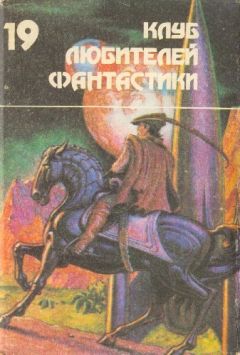этой истории партийного функционера выглядит в статье Кена преувеличенной, и писать о «Наполеоне» как «книге Тарле – Радека» [701] – верх неосторожности, повлекшей за собой и преувеличение причастности партийного вождя к содержанию книги.
Мне кажется, участие Радека в выработке концепции книги было гораздо более скромным, а роль вождя скорее опосредованной и, как обычно, противоречивой. Тем не менее в логике Кена, отстаивающего политический смысл тарлевской «работы по истории», есть рациональное зерно.
Кен связал книгу Тарле с попыткой части элиты с благословения партийного вождя направить эволюцию складывавшейся системы от тоталитаризма к авторитаризму, к закрепляющей произошедшие сдвиги в обществе личной диктатуре, при которой не остается места для дальнейших социальных пертурбаций, идеологии классовой исключительности и монополии партии на власть.
Существование определенных настроений в пользу придания высшей власти бонапартистски-надклассового характера, расширения социальной базы диктатуры при ослаблении ее партийно-классовой исключительности представляется вполне вероятным и может быть подтверждено различными свидетельствами (разработка новой Конституции – одно из наиболее значимых). Связь «наполеоновской» истории с последовавшим за изданием книги Тарле крушением этих надежд в условиях перехода к Большому террору, тоже просматривается.
«Кадровая революция» с погромом специалистов старой и новой формации, физическим уничтожением партийной элиты (трагедией в этом ряду самого Радека), завершившаяся диктатурой партноменклатуры и искоренением остатков автономности в обществе и профессиональной среде, бросает отчетливый свет на личность несостоявшегося или, вернее, состоявшегося совершенно в другом облике основателя «империи».
Cитуационно история книги Тарле выглядит так, как рисует Кен. Между 1935, когда историк получает заказ от издательства, и 1937, когда по книге полоснула фирменная сталинская двуходовка (устрашение – прощение), происходит крутой поворот политической истории страны. Достаточно сопоставить два политических документа, два выступления Сталина, разделенные всего 4 месяцами зимы 1936/37 года, и можно думать, что сменились исторические эпохи!
Первое выступление – доклад на VIII Всероссийском съезде Советов 23 ноября 1936 г. о проекте Конституции – призыв к консолидации в советском обществе, которую и призван был закрепить основной закон. Сталин подчеркивал: «Требуется … атмосфера уверенности, требуется стабильность, ясность»! Какие слова!!! «Стабильность законов нужна нам теперь больше, чем когда бы то ни было» [702].
Конституция 1936 г. оказалась самой демократической в истории большевизма. Она вызвала одобрение на Западе и совершеннейший восторг некоторых американских газет: «Принципы Сталина в значительной степени базируются на принципах американской Конституции и английской великой хартии», «Возможно, что спустя 50 лет нынешнее молодое поколение России будет чтить Сталина как одного из родоначальников истинной демократии», «Россия неожиданно становится полноценной демократической страной… Россия уже шла к этому в течение последних двух десятилетий. Примерно столько же времени прошло между Францией периода гильотины и теми днями, когда империя Наполеона достигла своего зенита» [703].
Траектория сталинского режима в реальности оказалась прямо противоположной подобным ожиданиям. Грянула смена курса: от стабилизации и утверждения конституционных принципов, одним словом, от нормализации постреволюционного режима – к удержанию власти методами гражданской войны. Однако это все же лишь фон, объясняющий историю книги, но не раскрывающий ее концептуальную суть.
Подвигший Тарле к написанию книги политический деятель оказался случайной фигурой на тогдашнем партийном Олимпе, тенью из большевистского прошлого. Не столько партийным функционером, сколько талантливым публицистом, носителем профессиональной традиции, когда людей подобного культурного уровня оставалось все меньше в сталинском окружении.
Его общий культурный уровень отразился и в отношении к историописанию. Критикуя концепцию Покровского, Радек писал, что в ней «нет места живым людям», «исчезает громадная фигура Петра I», Екатерина II становится «продуктом», Ломоносов и Радищев «появляются как неясные тени», а декабристы превращаются в «еще одну иллюстрацию роли торгового капитала». Между тем по «портретам трех Александров», написанным М.Н. Покровским для Большой советской энциклопедии, ясно, утверждал Радек, «какую красочную, живую историю России мог бы он написать, если бы не был связан по рукам и ногам механистическим методом». Однако «раз история является просто результатом механически действующих экономических сил, то какой интерес у историка может быть к изображению людей, которые эту историю делали» [704].
Тарле, хотя и отдал в свое время солидную дань «экономическому материализму», выраженный Радеком интерес со всей очевидностью разделял. Можно утверждать далее, что Радек выражал обнаружившуюся у вождя в середине 30-х годов в ходе работы над школьными учебниками истории [705] интенцию к очеловечиванию истории. Нетрудно предположить, что и Сталин интерес к «делавшим историю» разделял и что жанр истории замечательных людей отражал его властные наклонности. Партийный вождь во всем оставался прежде всего политиком, и закономерно, что в истории на личностном уровне его привлекали великие государи.
Тарле, известно, воспринимал свой труд как правительственный заказ. Ему сообщили, кто будет первым читателем, и, естественно, еще нереабилитированный и невосстановленный в Академии автор хотел угодить вкусам высокопоставленного Читателя. Можно лишь гадать, как выступивший в роли редактора книги Карл Радек обрисовал эти вкусы. Наверняка, впрямую говорилось об исторической роли выдающейся личности. Обоим, и автору, и редактору, приходилось, очевидно, задумываться об «идеальном», в веберовском смысле, типе, обобщающей модели единоличного правителя.
Впоследствии академика нередко характеризовали как сталинского любимца. Точнее было бы сказать, что партийный вождь покровительствовал историку. Несколько высших орденов, несколько сталинских премий, не говоря уже об апартаментах (принадлежавших ранее С.Ю. Витте) и благополучии по известному разряду советской аристократии. Вождь умел ценить нужных ему людей. По словам Е.И. Чапкевича, Тарле «вполне устраивал» Сталина как ученый и, вместе с другими крупными учеными дореволюционной формации, был востребован в тот момент для намеченной перестройки исторического образования (а заодно и характера историописания) [706].
Создание советской биографии Наполеона отвечало целям такой перестройки. Как и все происходившее тогда в советской историографии, и, разумеется, в большей мере, чем заурядные ее продукты, это, без преувеличения сказать, историографическое событие имело отношение к культу личности. Однако не стоит упрощать. Тарле – редчайший случай – избежал цитирования Сталина, избегал и прямых аналогий. Связь самого текста биографии Наполеона с личностью советского вождя представляется именно опосредованной – опосредованной, в первую очередь, историческими вкусами и политическими взглядами автора.
Можно, я думаю, говорить о некоей точке встречи диктатора и историка. Французская история эпохи Великой революции не для одних русских революционеров, а для всей политической и культурной элиты Российской империи была своеобразным учебником политического действия [707]. Почему не допустить, что личность и роль создателя Империи подлинно («как это было на самом деле») интересовала человека, ставшего единоличным правителем нового постреволюционного государства?
Нечто подобное случилось спустя несколько лет. Историк-германист и международник А.С. Ерусалимский получил через Молотова, ставшего тогда наркомом иностранных дел и запечатлевшего свое имя