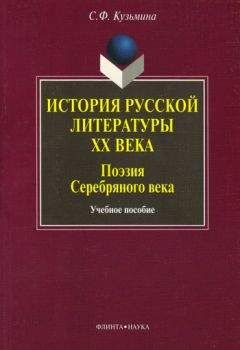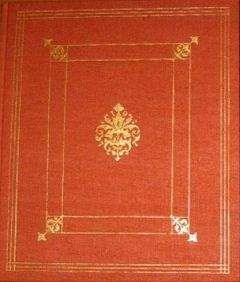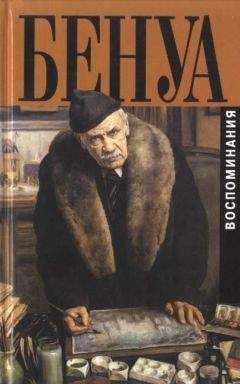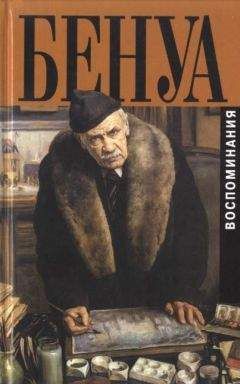Поэзия Хармса вводит абсурд для новизны поэтической речи и ее принципиального обновления, автор использует примитивистский гротеск, иронию и пародирование высоких образцов поэзии:
Вот и дом полетел.
Вот и собака полетела.
Вот и сон полетел.
Вот и мать полетела.
<…>
Вот и камень полетел.
Вот и пень полететь.
Вот и круг полететь.
<…>
Часы летать.
Рука летать.
Орлы летать.
Копье летать.
И дом летать.
И точка летать.
Стремление очистить поэтическую речь от правил, которыми руководствуется обыватель, живой носитель языка, приводило поэта к случайному соединению слов, которое должно было, по замыслу автора, давать надсмысловой выход в область «чистой» поэзии, что вело прежде всего к «озаумниванию синтаксиса» [277]. Абсурдный поэтический образ включался в традиционный реалистический контекст, функциональность абсурдного образа заключалась в высвечивании очевидного, но уже шаблонного смысла.
А ныне пять ОБЭРИутов,
еще раз повернувшие ключ в арифметиках веры,
должны скитаться меж домами
за нарушение обычных правил рассуждения о
смыслах.
Смотри, чтоб уцелела шапка,
чтоб изо лба не выросло бы дерево…
Как указывает И. Скоропанова, «в произведениях Д. Хармса либо «ничего» не происходит, что отражает духовную нищету обывательского существования («Постоянство веселья в грязи»), либо случаются абсурдные, загадочные, дурацкие бытовые происшествия («Жил-был в доме тридцать три единицы», «Вариации», «Востряков смотрит в окно на улицу»), раскрывающие отчужденность, алогизм поведения людей с вывернутой наизнанку психологией и моралью. И в том и в другом случае автор открыто никого не обличает, не высмеивает, полон притворной серьезности и сочувствия. О невероятном, из ряда вон выходящем, отмеченном нарушением причинно-следственных связей говорится как о само собой разумеющемся» [278].
В позднем творчестве Хармс обращается к традиции, включает поэтическое слово в контекст предшествующей художественной культуры, отвергаемой им ранее. Интертекстуальные связи его творчества обширны – это явные и скрытые цитаты из классических произведений, а также использование творческого наследия Серебряного века. Художественные образы Хармса приобретают целостность и глубокое содержание. Исследователи отмечают его «своеобразный поворот к неоклассицизму» [279], обнаруживают внутреннюю связь новаций Хармса с находками таких крупных мастеров авангарда XX в., как П. Пикассо, И. Стравинский, Д. Баланчин.
Мотивы страха, обреченности человека на безвыходность существования в предельно абсурдном мире, тема извечного трагизма человеческого существования осложняется, как и у многих поэтов – современников Хармса, темой насильственной смерти:
Когда траву мы собираем в стог,
она благоухает.
А человек, попав в острог,
и плачет и вздыхает,
и бьется головой и бесится,
и пробует на простыне повеситься…
Однако сопутствующая жизни смерть воспринимается героями Хармса как-то странно, смерть не вызывает никаких чувств, они не сочувствуют, не переживают, помещены в вакуум бесчувствия и омертвения души:
Сосед, занимающий комнату возле уборной,
стоял в дверях, абсолютно судьбе покорный.
Тот, кому принадлежала квартира,
гулял по коридору от прихожей до сортира.
Племянник покойника, желая развеселить собравшихся
гостей кучку,
заводил граммофон, вертя ручку.
Дворник, раздумывая о превратности человеческого
положения,
заворачивал тело покойника в таблицу умножения.
Варвара Михайловна шарила в покойницком комоде
не столько для себя, сколько для своего сына Володи.
Жилец, написавший в уборной «пол не марать»
вытягивал из-под покойника железную кровать.
Действия людей прагматичны и алогичны в одно и то же время, гротеск становится реальностью в той мере, в какой он связан с абсурдом бытия. Языковая стихия, в которой и совершаются главнейшие события, упрощается Хармсом дознаковых, элементарных единиц. Раскрывая фундаментальные процессы, упростившие обывательское сознание к 1930-м гг. до примитивного желания выжить, софистику и казуистику официоза, Хармс прибегает к указательным местоимениям, служащим в живой речи для замещения субстанции (вместо имени), а в философской традиции обозначающим ряд схожих или подобных явлений:
Это есть Это.
То есть То.
Это не То.
Это не есть Это.
Остальное либо это, либо не это.
Все либо то, либо не то.
Что не то и не это, то не это и не то.
Что то и это, то и себе Само.
Что себе Само, то может быть то, да не это,
либо это, да не то.
Комментируя принципы поэтического письма Хармса, И. Скоропанова пишет: «Вбивавшиеся в голову аксиомы отброшены, вернее – вывернуты наизнанку, и при этом делается вид, что их вовсе не было. Замалчивание никого не смущает. Смена вех камуфлируется с помощью невразумительной казуистики, вполне адекватной абсурдистской абракадабры, рожденной хармсовской издевкой» [280].
Это ушло в то, а то ушло в это. Мы говорим:
Бог дунул.
Это ушло в это, а то ушло в то, и нам
неоткуда выйти и некуда прийти.
Это ушло в это. Мы спросили: где?
Нам пропели: тут
Это вышло из Тут. Что это? Это То.
Текст такого рода можно наполнять и идеологическими смыслами, и иными реалиями движущейся истории. Хармс, используя возможности указательных местоимений указывать на вещи, не называя их, создает «пустотелую форму», содержание которой может быть любым: от метафизических категорий [281] до бакалейного реестра. Емкая передача диалектической текучести и постоянных изменений мира, воссоздание чувства полной растерянности рационального сознания перед неохватностью закономерностей жизни и случайностями («Бог дунул»), чувство неуверенности человека перед отчужденными силами стихий – вот в чем состояла сверхцель Хармса.
В 1930 г. Хармс пишет поэму под названием «Месть», в которой воссоздает диалог между Богом, апостолами, писателями, Фаустом и Маргаритой. Противостояние между писателем и Фаустом оборачивается противостоянием привычных смыслов и бессмыслицы. Фауст терпит поражение, бессмыслица торжествует. Конфликт принимает характер столкновения обыденного (логического, линейного) сознания и сознания творческого. Этот же конфликт лежит в основе стихотворений Хармса «Хню», «Молитва перед сном».
Философско-поэтическая концепция Хармса к 1930-м гг. претерпевает эволюцию, поэт стремится к целостному мироощущению. Опираясь на традиции Вел. Хлебникова, А. Крученых, творчество художников-авангардистов М. Матюшина, К. Малевича, Хармс исходит их возможностей художественного мышления (в противовес научному) воспринимать мир в его целостности, которое разум не нарушает своим вмешательством. Такой предсознательный подход «рассеянным» взглядом и «расширенным» зрением Хармс называет «цисфинитным»: «цис» – по эту сторону, «финитум» – законченность, т. е. по эту сторону законченности логики и ума. Задача видилась в том, чтобы уйти от власти привычной логики и приблизиться к первосозданному миру. В детских стихах Хармс рисует такой мир, поражающий и своей цельностью и множеством ее составляющих. Используя детскую считалку, поэт воспроизводит детское мышление:
«Откуда я?..»
Зачем я тут стою?
Что вижу?
Где же я?
Ну, попробую по пальцам все предметы счесть.
(Считает по пальцам).
Табуретка, столик, бочка,
Ведро, кукушка, печка,
Метла, сундук, рубашка,
Мяч, кузница, букашка,
Дверь на петле,
Рукоятка на метле,
Четыре кисточки на платке,
Восемь кнопок на потолке.
В творчестве Хармса выявлялись новые возможности артефакта: структурные законы и связи между словом и контекстом, словом и его мыслимыми интерпретациями претерпевают «второе рождение». Читатель Хармса сталкивается с несовпадением своих представлений и ожиданий от текста с тем, что предлагает автор в его игре со смыслами и знаками. Стихи Хармса, используя законы языкового мышления, порывают с привычной логикой и устойчивыми штампами, они «малодоступны» наивному читателю, на что указывается автором в названии «Управление вещей. Стихи малодоступные». Футуристско-сюрреалистические тенденции, пародийно-иронический контекст, абстракции, улавливающие абсурд привычной жизни, устойчивы в его творчестве.
В трагическом стихотворении «На смерть Казимира Малевича» Хармс воспроизводит основные законы поэтики кубизма и супрематизма, к которым относит возможность видеть составные части предмета и на плоскости и в объеме одновременно, что «ломает» натуралистическую форму видения мира и дает новую практику зрения:
Памяти разорвав струю,
Ты глядишь кругом, гордостью сокрушив ЛИЦО.
Имя тебе – Казимир.
Нет площади поддержать фигуру твою.
Дай мне глаза твои! Раствори
Окно на своей башке.
Только муха – жизнь твоя и
Желание твое – жирная снедь.
Поэта завораживает «поэтика бесконечного небытия», которая равносильна поэтике абсолютного бытия, за тем лишь исключением, что в небытии возможно все, в бытии – нет. Словосочетание «бесконечное небытие» вводится как подзаголовок к стихотворению «Звонить – Лететь» (1930). Мир освобождает от законов тяготения, летят дом, собака, человек; освобожденный мир звенит; время переходит в вечность; жизнь продолжается, но уже по совершенно другим законам: