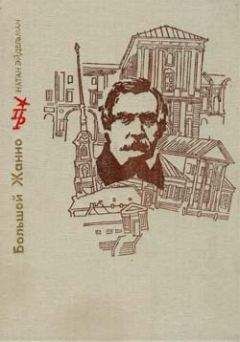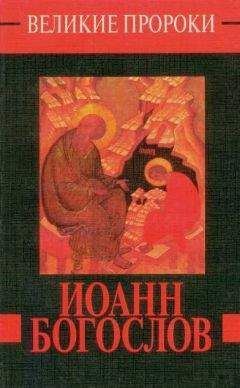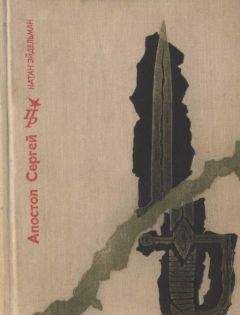Н. Т. признался, что с тех пор Корфа боялся и всегда прятался во время его редких визитов к А. С. (в последний раз — совсем незадолго до кончины Пушкина, то есть почти через 20 лет после «битвы при Коломне»).
К воспоминаниям о пережитом Никита вернулся фразою — «Вскорости сослали нас». Однако я прервал — и напомнил ему о поступке, за который Пушкин особенно гордился своим дядькою. Опытнейший агент полиции предлагал огромную для Никиты сумму — 50 рублей — за один только беглый просмотр бумаг Пушкина, причем обещал все держать в тайне. Никита отвечал мне, что в сем поступке не находит никакой доблести и потому даже о нем забыл.
Впрочем, старик хитрил и, возможно, ожидал, чтоб я его первым о тех 50 рублях спросил.
«Вскорости сослали нас, и мы пожили 4 года в Кишиневе и Одессах, и уж чего там не насмотрелись…»
Я приготовился слушать и для вас запоминать, но вот слышу:
— Ах, стояли мы на берегу Днепра и вдруг видим — два колодника плывут, одной цепью скованные, и не тонут, друг друга поддерживают…
Мне интересно было слышать Никитину версию о братьях-разбойниках, но вдруг он мне доверительно:
— А как доплыли эти молодцы до того берега, обернулись — один псом, другой человеком с белым волосом и светлыми глазами, — и человек нам кулаком пригрозил. Не верите? Жаль, Александра Сергеевича нету, он бы подтвердил: сами видели, и еще сказали: «Вот, Никитушка, белый мой человек!» И уж не совру, я того белого везде бы узнал, а однажды вдруг вижу в гостях, на балу. Я потом говорю барину, не узнал ли белого человека? А он мне отвечает, спокойно отвечает: «Узнал, да еще, может, и не тот. Надо бы его на пулю проверить». Смекаете?
Конечно, я смекнул, что старик толкует о белом человеке Дантесе, но, не давая Никите Тимофеевичу слишком уж отвлекаться, перевел, так сказать, стрелку часов на Михайловское.
— Отчего я тебя там, Н. Т., не видел, когда гостил зимою у барина?
— Так очень просто, батюшка Иван Иванович. Приехали мы в Михайловское, а Сергей Львович очень гневались на Александра Сергеевича, да и мне перепало, что худо следил, от новой опалы не уберег, будто мог я его удерживать. А сколько раз жив и цел оставался барин благодаря моей опеке, так уж и не в зачет. В общем, выходило, будто Александр Сергеевич еще и меня испортил, а Сергей Львович вскоре разбранились с сыном до криков русских (а это уж последнее дело, потому что обыкновенно на французском браниться изволили, а ежели иное слово по-русски произнесут — скажем свинопас — непременно пардон!). Так вот отец с сыном разбранились и уехали, меня с собою прихватив, а оставили Александра Сергеевича опять с Ириной Родионовной, как грудного несмышленыша.
Я опять перебиваю:
— Останься ты, Никита Тимофеевич, в Михайловском, был бы столь же славен для русского читателя, как няня, и какие стихи про тебя были б сложены.
— Отчего же, — возразил Никита, — про меня и так немало написано: первое — это братья-разбойники, как через Днепр они плыли. Я уж сказал, вместе с Александром Сергеевичем видели…
Я понял, что Н. Т. на этом основании уж полагает поэму соединенной с его особой.
— В Кишиневе стихи были мне писаны, да позабыты. Недавно вспомнили тогдашние дружки — и мне Сашенька прислала… (Все та же милая девочка Александра Петровна Ланская, — не знаю, как ее назвать, «пушкинская падчерица», что ли?) А стихи такие:
Дай, Никита, мне одеться:
В митрополии звонят.
— А дальше что было?
— Как что? Я давал барину одеться и они в верхний город отправлялись.
— А затем?
— Откуда ж мне знать? Он меня с собою не брал: пока говорит «дай одеться» — это про меня стихи, а после — уж о другом. Но подожди, батюшка Иван Иванович, еще вспомню. Третье: «Царь Никита и сорок его дочерей». Грех, господи прости, но царь-то с меня писан! Мне Александр Сергеевич прямо и сказал: «Я тебя, Никита, в цари произвел, ты уж не гневайся». — «Зачем гневаться?» — спрашиваю. А барин мне: «Да ведь царям все дозволено, и ты у меня такие штуки выкидываешь, просто срам!»
Три! Но главное-то в четвертых. Ну-ка послушайте.
И Никита прочитал, не сильно сбиваясь, наизусть, да из прозы:
«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку».
— Ну что, — победоносно спросил меня Никита, окончив читать, — не узнаете, Иван Иванович? Это же меня барин Сергей Львович бранит, точно такими словами и поучал, так что Савельич, выходит, я! Мне покойный Александр Сергеевич ничего о том, правда, не сказывал, видно, не успел, да я уж после его кончины прочитал «Капитанскую дочку». Теперь глядите — это что же? — показал на свой старый тулуп, картинно потрескавшийся во многих местах.
— Сей тулуп, век не забуду, пожалован мне батюшкой Сергеем Львовичем. Как мы поехали с ним в 25-м годе принимать Болдинскую часть от сестрицы Анны Львовны, я при барине вид имел, так что мужики понятие получили, каков у них барин, ежели камердинер столь благообразен. За вид мой и важность мне сей тулуп и был в ту пору пожалован — 16 рублей стоил. Неужто теперь сомнение еще имеете: Савельич! Кругом Савельич. Гринев-то Петр Андреевич в дальние гарнизоны сослан, и дядька при нем; Пушкина же Александра Сергеевича тоже далеко отправляют, а меня, верного холопа, с ним. От разбойника, который мне 50 рублей сулил, чтоб барина предать, я Александра Сергеевича спасал, будто от Пугачева. Ну и, наконец, тулупчик, тулупчик-то заячий не забыли? Да какое же после этого сомнение? Мне Александр Сергеевич поднес «Капитанскую дочку»: «На, прочти, не торопись» — и все ждал, что я скажу. Он всегда выспрашивал меня про книжки, никого так не выспрашивал, как меня. А я все откладывал, все недосуг — и не дождался, не успел потолковать.
После похорон уж вернулся, прочитал — думал, что все слезы в Святых горах на похоронах выплакал, да еще ведь нашлись. Вышел мне от барина привет загробный.
Старик и сейчас явно склонялся слезу уронить, да и я был не далек — а уж картинка была бы, два старичка захлюпали, но я перемогся и Никиту отвлек.
— Михайловских дел Александра Сергеевича, ты, выходит, не знаешь. А я думал одну тайну с тобой разгадать.
— Какую ж тайну? У нас с покойным барином много их было.
Я подробно объяснил про декабрь 25-го, про мое письмо, отъезд и возвращение Пушкина в Михайловское и кончил тем, что очень интересуюсь, отчего и как он ездил, возвращался?
Слышу в ответ знакомое имя:
— Архип Курочкин все знал.
— А не припомнишь ли рассказов его?
— Как не помнить: там сплошной машкерад был. Белкина повести изволили читать? Помните Акулину-то (барышню то есть Лизу), дочь ведь Архипа-кузнеца — это же о нем, Архипе Курочкине!
Я было хотел снова остановить Никиту, явно пытавшегося пересказать мне «Барышню-крестьянку», но он ловко повернул:
— А на самом-то деле не барышня рядилась в крестьянку, а сам барин мой в мужика. Архип сказывал мне, как барина учил мужицкой походке, обхождению, и прическу, бороду — все примеряли, и уж бумагу справили на двух мужиков, один то есть Архип, а второй Александр Сергеевич, то есть как бы крепостной человек.
— Что же дальше, отчего твой барин не приехал в Петербург? — И уж готовился услышать про зайцев да попов, но вот что последовало:
— Как же это не приехал барин в Петербург. Прибыл! И как раз 14 декабря, в понедельник, пошли мы с ним спокойно на площадь, и вдруг слышим Вильгельм Карлыч Кюхельбекер кричит: «Пушкин! Пушкин!» Хотел я молодца удержать — куда там! Шмыгнул в толпу — и нет его. Я давай звать, а меня уж кто-то за загривок прихватывает: «Чего мешаешь людям?»
— А чем мешаю, что делаю-то?
— Люди бунтуют, не мешай бунтовать!
Слово за слово — вдруг гляжу, он-то, барин мой, меж солдатиков суетится и с вами обнимается!
— Со мною?!
— Ну да, с вами-то, Иван Иванович, с родным, как же не обняться? Потом гляжу, нигде нет моего Пушкина. Бегал, кричал, пошел домой. Сергей Львович подступились — что, где? Я, видно, сдуру тут нехорошо заговорил. Как соберусь кого утешить, обязательно еще огорчу, и как раз в ту пору не могу обыкновенно, но обязательно стихом или плачем объяснюсь. Вот и тогда я давай вопить: «Батюшка, ясно солнышко, ты, Сергей Львович! Душенька вся моя переворачивается, что нет барчука моего ненаглядного. Где-то он пропадает, родименький? Уж не попутал ли его сердечного нечистик?» Тут Сергей Львович отругал меня по-французски и очень понятно — «севьёрэфор», старый хрен то есть, и палкой-то угостил. А я ведь отвык, давно не бивали, пожалуй, только Корф Модест Андреевич лет за семь до того, и вследствие печали отправился на кухню и плакал горько, а Сергей Львович грозился еще: «Сгоню в вотчину». К счастью моему, явился в ту пору ненаглядный мой Лев Сергеевич…