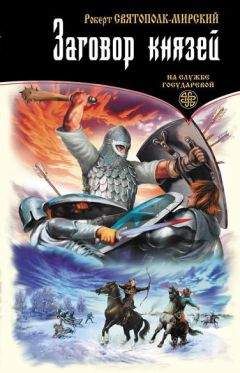Федор улыбнулся.
— Понятия не имею! Все это затеял Олелькович. Зная о моей дружбе с Можайским, он уговорил меня устроить охоту на зубра. Потом сказал,что очень хочет видеть тебя, но, опасаясь, что ты не прислушаешься к его приглашению, просил меня послать к тебе своего гонца. Я выполнил его просьбу.
— Странно. А кто еще будет?
— Не знаю точно. Кажется, Ольшанский.
—' И ты не догадываешься, в чем дело?
— А разве у тебя есть причины думать, что дело не в охоте? — удивленно спросил Федор.
Глинский молча пожал плечами.
— Не знаю, — вздохнул Федор. — Я просто сделал все, о чем меня просили. Зубр окружен и ждет.
— Неужели дело только в зубре? А я-то думал, нужна моя помощь. Знал бы — не поехал. Я не люблю охоту.
В полдень приехал князь Ольшанский в сопровождении юноши, увешанного оружием, двух слуг и глубокого старика. Князь был поклонником древних рыцарских традиций, одевался соответствующим образом, собирал старинное оружие и никуда не выезжал без юного пажа-оруженосца. Кроме того, он повсюду возил за собой седого старца, за которым любовно ухаживал, намекая при случае, что это ясновидец и колдун.
Высокий, худой, с горбатым носом и длинными черными волосами, обрамлявшими лицо правильной скобкой, князь Иван Ольшанский в сверкающих доспехах и при полном вооружении производил впечатление грозное и устрашающее. Но стоило взглянуть в его наивные, светлые, доверчивые глаза, чтобы понять, насколько обманчиво первое впечатление.
Князь любил опасность.
Росший пугливым нервным ребенком, он поставил перед собой цель навсегда победить холодный страх, цепко хватающий его душу при каждом неожиданном стуке, при внезапном появлении человека впереди на дороге, при грохоте пушек, при" виде обнаженного оружия. И всю жизнь он отчаянно достигал эту цель. С бледными губами, на непослушных ногах, он шел навстречу любой опасности, прослыв человеком невиданного мужества и беззаветной храбрости. Никто никогда не узнал, каких усилий стоила ему беспощадная война со страхом, и, убедив в своей храбрости всех, он не мог убедить в ней самого себя. А это было для него главным! И он снова и снова искал опасности, чтобы, сжав зубы, еще раз победить…
Федор встретил любимого брата с обычной сердечностью и отвел в лучшую комнату терема.
— Когда начнем? — деловито спросил Иван, холодея при мысли о встрече с огромным зверем.
— Завтра на рассвете.
— Отменно.
— А ты знаешь, что все это затеял Олелькович? — невзначай спросил Федор.
— Нет, но какая разница? Лишь бы зверь был побольше!
— Дело не в том, — Федор взял Ивана под руку, — мне кажется, что Михаил собрал нас не столько на охоту, сколько сообщить нечто важное… Охота — лишь предлог.
— Как?! — упавшим голосом спросил Ольшанский. — И зубра не будет?! Зачем же я здесь?
— Зубр будет, Иванушка, — поспешил успокоить его Федор. — Но, возможно, Михаил хочет предложить нам развлечение еще более увлекательное.
— Я приехал сюда сразиться с зубром, — упрямо сказал Ольшанский. — И я с ним сражусь. Никто меня от этого не отговорит. А все остальное — потом.
Перед обедом Федору доложили, что князь Михаил Олелькович находится за версту от терема и через полчаса будет здесь. Федор велел подать обед Глинскому и Ольшанскому, а если спросят, почему его нет, сказать, что он уехал осмотреть место завтрашней охоты.
Князь Федор Вельский встретил второго двоюродного брата далеко в лесу.
Дородный и осанистый Михайло Олелькович ехал важно и не торопясь, окруженный целым отрядом до зубов вооруженных людей.
— Здорово, братище! — заорал он на весь лес и чуть не свалился с коня, потянувшись обнять Федора.
По всему было видно, что сегодня Михайлушка уже отобедал.
— Пришлось! — подтвердил он, когда Федор
спросил его об этом и, наклонившись к брату,
многозначительно сказал, указывая на коня под
собой: — Это все из-за него, ей-богу! У него, зна
ешь, характер особый — не выносит, когда я са
жусь в седло, не выпив предварительно кварту
доброго меда, — тут же скидывает меня на землю!
Я долго думал, почему это? И представь — разга
дал. Ей-бо! Он любит музыку! В этом все дело. По
нимаешь, кварта — это как раз пол моего живота,
и когда едешь выпивши, мед внутри эдак весело
плюхается, как в бурдюке: буль-буль, плюх-плюх!
Это его развлекает, и тогда он готов везти меня хоть до батьки в пекло! А иначе никак, понял?
Олелькович загоготал на всю округу и, не дав Федору слова сказать, продолжал:
— Но ты не тревожься, Феденька, я тебя не обижу и не откажусь отобедать еще раз! Ты ведь, верно, выехал сказать мне, что стол накрыт и ждет?
— Напротив, дорогой брат, пока Глинский с Ольшанским обедают, я хотел предложить тебе прогуляться со мной по лесу, безразлично в каком направлении, ну, скажем, к месту завтрашней охоты.
— К черту охоту! Давай поскорей к столу! Постой, — изумленно спохватился он, — какая такая охота?
— Как, разве ты не получил моего письма?
'— Феденька! Ну конечно, я его получил! Читаю, вижу — ты ждешь меня такого-то дня, там-то и там-то, и тут же вспоминаю, какое отличное пиво варит у тебя этот… как его… ну не важно! Я немедля сажусь в седло и еду!
— А дальше?
— Что дальше? Я здесь! Вот он я!
— А письмо дальше ты не читал?
— Зачем?
— Ты все тот же, Михайлушка! — укоризненно покачал головой Федор.
— Федек, ты, главное, не тужи! Все это бублики!
А на кого охотимся?
. — На зубра.
— Да ну-у-у?! По мне так лучше бы зайчиков пострелять! Ну, как говорят у меня на Киевщине: хай буде гречка, абы не сперечка! Э! Постой! Что ж это ты, братец, пригласил меня на охоту и кормишь байками, пока твои гости допивают последний бочонок! Гораздо ли поступаешь, собачий сын! — и Михайлушка, хлопнув Федора по спине, снова закатился хохотом.
— Во-первых, это не я тебя, а ты меня пригласил на охоту, во-вторых, это не мои, а твои гости.
— Как так?! — вытаращил глаза Олелькович.
— Именно для того, чтобы объяснить тебе это и многое другое, я выехал навстречу. Прикажи своим людям отстать на двадцать шагов, и я скажу тебе, как ты должен вести себя, когда появишься в тереме. А после обеда мы снова уединимся, и тогда ты узнаешь, что необходимо сделать для исполнения одной твоей заветной мечты. Ты ведь хочешь занять место, принадлежащее тебе по праву, не так ли?
— Братья! — торжественно и громко начал Олелькович и, вздрогнув, замер.'
— Я…я..л… — отозвалось многократное эхо и запуталось в глухих зарослях дремучей пущи.
Тихое лесное утро. Четверо князей сидят под старым дубом на маленькой поляне. Перед князьями — скатерть, на ней вина и закуска, но никто не притронулся к завтраку.
Все настороженно и выжидающе смотрят на Олельковича.— Братья! — повторил он тихо и проникновенно. — Я позвал вас сюда, чтобы покаяться в смертном грехе перед родиной и искупить этот грех.Вы явились на мой зов, вы слушаете меня, а я гляжу на ваши лица, и сердце мое обливается кровью! Передо мной лучшие сыновья Древнейших родов, самые знатные и самые могущественные владыки русской земли, цвет — да-да, я не боюсь этого слова — цвет православного рыцарства!
Он умолк, набрал побольше воздуха и продолжал с нарастающим жаром.
— Братья! Все мы исповедуем одну веру, говорим на одном языке, все мы — кровь и плоть одной земли, но мы чужие здесь! Мы в забвении.Мы — никто. Храмы нашей святой православной веры обветшали и рушатся, а нам запрещено строить новые, древние обычаи наших предков насильно искореняют, и мы начинаем принимать чужие; наших детей учат иноземным языкам, и они забывают, родной. Жестокий деспот, который молится Богу по враждебному нам латинскому закону, надменно попирает наши исконные вольности!
При этом каждые четыре года он воюет далеко на
западе за чуждые нам интересы белого орла1 , бросив на растерзание черным воронам нашу родную литовскую землю! Он не любит ее. Он не дорожит ею. Он предает ее! Братья! Наши лучшие люди, потомки славных героев, что испокон веков владели этой землей, устранены от управления державой,притесняемы в своей вере, их грабят и унижают холопы изменника-короля! Доколе будет продолжаться это чудовищное злодеяние! Доколе мы позволим иноверцам хозяйничать в нашей земле?!
Олелькович сделал паузу. Бледный Ольшанский плотно сжал губы. Лицо Глинского нахмурилось в размышлении. Вельский был серьезен и непроницаем. Олелькович продолжал:
— Я не буду вспоминать унижения, которые терпит каждый из нас. Я не буду говорить о тебе, Глинский, — ты владетельный магнат, быть бы тебе могучей опорой великокняжеского престола,
1 Польский герб.