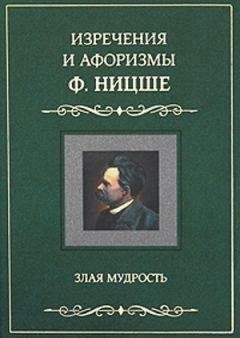Под конец того октябрьского дня из семидесяти семи солдат немецкой роты «не осталось ни единого дееспособного бойца: одни были ранены, другие мертвы. Целая рота исчезла».
Столь близкое расположение враждующих войск приводило временами к странным, почти приятельским встречам противников. «Часто случались стычки прямо в домах, – рассказывает Анатолий Мережко. – Мы, скажем, укреплялись на третьем этаже, а немцы занимали первый и второй. К полудню все уже с ног валились, и они, бывало, кричали нам: “Эй, русские!” А мы им в ответ: “Чего вам, немцы?” “Водички не дадите?” – просили они. “Меняем воду на сигареты!” – соглашались мы. А через час мы вновь открывали огонь, опять воевали друг с другом. Или, к примеру, немцы отзывались так: “Сигареты кончились. Хотите хорошие часы?” Тогда воду меняли на сигареты, водку или шнапс – и честно прекращали огонь, покуда шла меновая торговля. Но потом или они выкидывали нас вон из здания, либо мы выкидывали их. Настоящий честный бой: побеждает сильнейший».
К такой войне немцы не были готовы. «Рукопашный бой, позиционная война, – говорит Иоахим Штемпель, – не хочу сказать, что нас этому вовсе не учили, – но учили как побочным навыкам. Мы были армией наступления, учились атаковать, не имели опыта русских солдат, которые были лучше подготовлены к таким боям благодаря своей привязанности к родной земле и душевному складу. У нас ничего этого не было, да и к матери-природе русские стояли поближе нашего – оттого и потери у них были меньшими. Перевес в рукопашных боях и окопной войне определенно был на стороне русских… Мы ведь служили танкистами, учились водить танки, воевать на танках, сокрушать врага танками, – а потом покидать поле боя и двигаться дальше. Но теперь это сделалось позабытым прошлым, далеким прошлым…”
Немцы просто скрипели зубами: ведь Волга виднелась так близко! “Еще! Еще! – повторяли нам. – Еще сто метров, и мы у цели!” Но как дойти до нее, если сил совсем не осталось? Атаки проходили совсем не так, как нас учили. Мы оставались на тех же позициях уже не первую неделю, бились за каждый клочок земли, пытаясь забрать у русских хоть десять-пятнадцать метров, – даже такая мелочь считалась большим успехом. Но самое главное, русские обороняли узкую прибрежную полосу, метров триста глубиной, спускавшуюся крутыми склонами к Волге, где и располагались командные пункты русских армий и дивизий. Их защитники фанатично относились к своей боевой задаче, неуклонно следуя распоряжениям свыше: “Удержать позиции любой ценой, ведь за вами – наши генералы!” Мы никак не могли пройти последние сто метров, которые и были, по сути, нашей главной целью».
Герхард Мюнх, служивший в то время командиром батальона, быстро понял, что с наличными воинскими силами и вооружением ни одна сторона не сумеет одержать верх в боях от дома к дому: «Если враг уже удерживает лестницу или первый этаж, не стоит даже пытаться захватывать [этот дом], ибо ничего не выйдет. Если ни одна попытка так и не увенчалась успехом, но если вам повезло и удалось вытащить своих раненых – остановитесь. Действия в этом районе так и не сдвинутся с мертвой точки… Изменить ничего нельзя, если, конечно, полдесятка новых дивизий не придут на выручку… Впрочем, боюсь, и тогда не поделаешь ничего».
Германское наступление захлебнулось по всему городу: советские снайперы, скрывавшиеся в руинах, делали всякое открытое передвижение в дневное время смертельно опасным. Снайперов боялись и ненавидели. С точки зрения многих немцев, они олицетворяли собой всю гнусность, подлость и бесчестность битвы за Сталинград. «Русского снайпера, орудовавшего в нашем секторе, снова и снова прославляли как великого героя, – рассказывает Герхард Мюнх. – Однако мне он представляется отвратительнейшим созданием. Думаю, их работа сопоставима с охотой на дичь из засады, но это уж не по-солдатски. Так я думаю».
«Нам приходилось все труднее, – вспоминает Иоахим Штемпель, – каждая атака стоила таких потерь! Нетрудно было понять: скоро в живых не останется вообще никого. И мы прекрасно знали, что каждую ночь русские переправляют через Волгу свежие войска. А у нас резервов не было, вот и приходилось держаться до последнего, точно прикованным к месту». Впрочем, немецкая сторона также получала подкрепления – однако неопытные солдаты быстро гибли в разрушенном Сталинграде: «Один эпизод навсегда останется в моей памяти: крики радости, которыми разразились бойцы нашего батальона, услышав о том, что вот-вот прибудет шестьдесят-семьдесят человек из резерва. Разумеется, эта новость вселила во всех такую надежду, что ни о чем другом и думать не могли. А потом они прибыли – совсем юнцы, лет восемнадцати-девятнадцати, прошедшие примерно четырехнедельную подготовку. Той ночью мы угодили в настоящий ад. Вначале ударила вражеская артиллерия, затем русские ворвались в наши окопы. Нечеловеческими усилиями – сам командир батальона пришел мне на помощь в бою – мы вытеснили русских вон из траншей. И в первом же бою выбыло из строя больше половины желторотых резервистов: кого-то ранили, кого-то убили. А все потому, что им не хватало интуиции, чувства опасности, которые необходимы в подобных схватках. Они просто не умели драться, как дрались мы, уже закаленные бойцы».
Ожесточенные бои велись и за Мамаев курган, древний могильный холм на окраине города. Кто занимал курган, получал полный обзор всего Сталинграда и Волги. В ходе Сталинградской битвы эта стратегически важнейшая возвышенность неоднократно переходила из рук в руки. Альберт Бурковский также участвовал в боях за курган. Его «усыновила» советская 13-я гвардейская стрелковая дивизия, в четырнадцать лет он стал одним из самых молодых защитников Сталинграда. «Помню, как ступал на Мамаевом кургане по разлагающимся телам, – рассказывает он. – Представьте только: ставлю ногу на землю, а когда поднимаю, вижу: к сапогу прилипли человеческие внутренности. Такое забыть невозможно… А самое страшное воспоминание связано с тем днем, когда я впервые убил немца. [На Мамаевом кургане] ежедневно бывало атак пятнадцать, а то и двадцать. Сначала бомбежка, потом артиллерийский обстрел, потом шли танки, а за ними – пехота. И вдруг вижу перед собой огромного немца: стоит и глядит куда-то в сторону. Не заметил меня, потому что я лежал, весь в грязи и земле. Я выстрелил, не поднимаясь. Когда стреляешь в упор, из человека просто вырывает клочья мяса и слышен запах опаленной одежды. Меня вырвало. Товарищи стали утешать: ничего страшного, это всего лишь немец… А меня трясло с головы до ног. Век не забуду».
Чтобы уцелеть в немецких бомбардировках, советские бойцы рыли подземные укрытия на берегу Волги. Штаб Чуйкова располагался глубоко под землей, всего в нескольких метрах от реки. «Без траншей и убежищ нам было не выжить, – рассказывает Бурковский. – Всюду кишели вши, помыться было нельзя. Но никто не болел – нервное напряжение было столь велико, что попросту защищало от недугов». В непосредственной близости от реки, в сточной трубе, жил некий советский командир, проводивший собрания на досках, выложенных прямо поверх проточной воды. Немцы никогда прежде не видели у бойцов Красной Армии подобной самоотверженности. «Думаю, только русские могут привыкнуть к таким лишениям и невзгодам», – говорит Анатолий Мережко.
Но Сталинград обороняли не только мужчины. На Западе сравнительно мало внимания уделяют огромному вкладу, внесенному в боеспособность Красной Армии солдатами-женщинами, хотя в ходе Второй мировой войны по меньшей мере восемьсот тысяч женщин служили в советских войсках. Тамара Калмыкова стала тем летом связисткой в 64-й армии. «Когда мы прибыли на фронт, – вспоминает она, – то узнали, что полагаться следует лишь на себя, что именно мы должны исправлять ошибки, допущенные в первые годы войны… Женщины оказались более выносливыми, хоть нас и называют слабым полом. Как сказал Чуйков, «на женщин можно положиться, можно быть уверенным, что приказ будет выполнен в точности, любой ценой». Ведь каждая женщина – это мать, дающая жизнь, она ничего не пожалеет, чтобы ребенка своего защитить, как животные защищают детенышей. А еще женщины не знают пощады. Они мстят за своих мужей или братьев, ведь почти в каждой семье кто-то погиб на войне. От их домов остался лишь пепел. Кто угодно, в какой угодно стране желал бы отомстить за такое. Именно это звало нас на фронт, именно это давало нам силу, терпение и смелость, чтобы взяться за столь тяжкое дело».
Хотя Калмыкова официально числилась связисткой, ей довелось участвовать в жестоких боях у окраины города: «В ходе битвы мы проверяли линию связи, как вдруг кто-то крикнул: пулеметчика убили. Мы с подругой, которая служила санитаркой, бросились к нему, она начала перевязывать его раны, но он был уже мертв. И тогда подруга моя залегла за пулеметом сама и стала стрелять, а я помогала, подавала ей ленту. Мы сумели отбить немецкую атаку. Подруга погибла. Я всем сердцем возненавидела немцев, убивших ее… Сердце кровью обливалось: ей было всего восемнадцать – девочка еще ничего не видала в своей жизни».