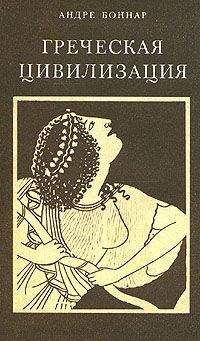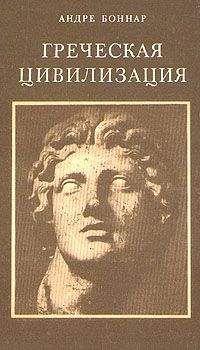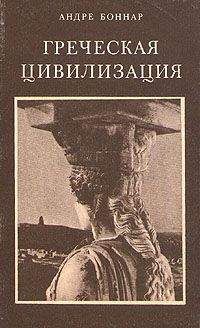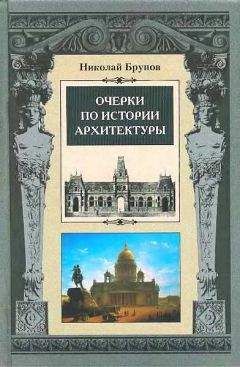(Там же, с. 677–679)
Но это слово раскрывает его, и это слово запоминает Медея. Таким образом, и в этой сцене, в ходе которой она испытала столько унижений и действительно была придавлена глыбой эгоизма Ясона, Медея, всегда достаточно сильная для того, чтобы поддержать свое превосходство, также обретает оружие: Ясон дорожит своими детьми. Этого достаточно. Из временного торжества Ясона логически вытекает торжество Медеи.
Я перехожу теперь к сцене с Эгеем, царем Афин, старым другом Медеи. Медея дает Эгею убедить себя принять изгнание и соглашается воспользоваться убежищем, которое царь предлагает ей, если в том будет необходимость. В театре такие сцены вызывают у действующих лиц и у зрителя слишком тяжелые мысли. В данном случае возникает мысль об убийстве детей. Кроме того, здесь, в этой сцене, в известном смысле действуют заодно судьба — иначе говоря, обстоятельства — и наши страсти. Жизнь предлагает такие возможности; главное — чтобы Медея смогла уловить это. Она не боится умереть после своего преступления, но она хочет насладиться своею местью. Вот почему она принимает гостеприимное предложение Эгея.
После этого разговора, дающего ей возможность обезопасить себя от врагов, Медея вдруг ясно видит: она сначала воспользуется детьми, чтобы расставить сети новой супруге Ясона. Дети преподнесут ей отравленные подарки, которые и вызовут ее смерть. После этого Медея убьет своих детей. Это единственный удар, который она может нанести Ясону. Не важно, что этот удар поразит также и ее самое. Только таким образом сможет она открыто продемонстрировать свою силу… Все это она объявляет хору, смешивая ликование с ужасом, перемежая слезы с торжествующими возгласами. Пролог уже подготовил нас к тому, что страсть Медеи может обратиться против ее же детей, и все-таки мы не допускаем мысли, чтобы это предчувствие обратилось в реальность. Нам еще не кажется, что необходимость убийства детей ясно осознана Медеей. Мы говорим вместе с хором:
Нет, никогда
Ты не дерзнешь
В гневе безбожном
Свою омочить
Руку в крови
Детей молящих!..
(Там же, с. 1024–1029)
Тем не менее планы Медеи начинают осуществляться с устрашающей точностью. Ей легко удается заманить Ясона в ловушку примирения. В этой сцене, где она испытывает отцовское сердце Ясона, в котором обнаруживается чувствительность, скрытая под корой эгоизма, она, притворно сияя, ощутила радостный трепет от того, что наконец-то нашла в непроницаемой броне Ясона щель, куда можно вонзить нож. Дрожь радости и ужас: ибо любовь Ясона к сыновьям — это в то же время приговор, который обрекает детей на гибель и тем самым вырывает их у него для нее.
Когда Медея остается одна с детьми, в ее душе начинается величайшая борьба. Они перед ней, с их милыми глазами, с их последней улыбкой:
Увы! зачем
Вы на меня глядите и смеетесь
Последним вашим смехом?
(Там же, с. 1230–1232)
Она — полная владычица их жизни и смерти. Она сжимает их в своих объятиях, покрывает их поцелуями.
…дети, дайте руки,
Я их к губам прижать хочу… Рука
Любимая, вы, волосы, вы, губы,
И ты, лицо, какое у царей
Бывает только… Вы найдете счастье
Не здесь, увы! Украдено отцом
Оно у нас… О сладкие объятья,
Щека такая нежная и уст
Отрадное дыханье!.. Уходите,
Скорее уходите…
(Там же, с. 1262–1271)
Она их отстраняет и делает им знак идти домой.
Впервые в театре драматический конфликт оказался ограничен пределами человеческого сердца. Шесть раз, подобно бушующим волнам, материнская любовь и демон мщения сталкиваются в глубинах этого сердца, которое как будто сотворено одновременно из живой ткани и из железа. В один какой-то момент чудится, будто любовь побеждает.
Оставь детей, несчастная, в изгнанье
Они усладой будут…
(Там же, с. 1253–1254)
Но демон нападает, действуя новым оружием, убеждая Медею, что уже слишком поздно, что она более не свободна, нашептывая ей, что «все сделано… возврата больше нет…» (с. 188). И это одна из обычных уловок демона: внушать нам, что мы более не свободны, для того чтобы мы именно и перестали быть свободными. Еще одно потрясающее ее душевное волнение — и она сдается на призыв к убийству. Внутреннее действие развязано.
Что же касается его внешнего проявления, то оно следует с быстротой молнии. Медея завершает его стихом, ставшим теперь весьма известным:
…Только гнев
Сильней меня, и нет для рода смертных
Свирепей и усердней палача…
(Там же, с. 1274–1276)
Fumos — это страсть, это ярость, демон, который обитает в Медее, это смертельная ненависть.
Медея овладевает собой. Она спокойно ждет сообщения о смерти соперницы. Когда приходит вестник, чтобы рассказать ей об этом, она его слушает с наводящей ужас радостью. Этот рассказ ярок и почти непереносим. Образ маленькой царевны, этой кукольной фигурки, которую Ясон предпочел величию Медеи, излучает сияние жемчужины, — жемчужины, которая вот-вот будет раздавлена каблуком. Царевна вначале отворачивается, увидев детей своей соперницы, но, привлеченная подарками, она не может удержаться, чтобы не примерить диадему и пеплос. Сцена перед зеркалом чарующе прелестна в своем изяществе. Вдруг ее поражает боль. Служанки на какое-то мгновение думали, что это припадок падучей. Затем появляется это пламя, которое брызжет от ее лба. И этот ужас…
Медея слушает этот рассказ, испытывая сладострастие. Она наслаждается жестокостью, вбирает ее в себя капля за каплей. Затем вдруг резкое движение: пора действовать! Ее ждет действие. Она стремится туда. Какие-то порывы сердца к горячо любимым детям витают в ней. Она делает усилие над собой. Спор окончен.
Она стучит в дверь в тот момент, когда хор призывает сияние солнца. Поэт воздерживается от рассказа о смерти детей. Возможно, рассказ ослабил бы наше впечатление на какие-то мгновения. Крики убиваемых детей прорываются сквозь пение хора, этого достаточно для того, чтобы наше нервное напряжение достигло предела… Действие развертывается с максимальной быстротой. Ясон уже здесь, перед закрытыми дверьми. Он ломает себе пальцы, стараясь открыть двери. Он хочет отомстить за свою молодую жену, он хочет спасти сыновей от народного возмездия, но хор кричит ему, что дети его уже мертвы. Сколько трагедий заканчивается словами — «уж поздно!». Судьба опережает людей в быстроте.
Но здесь судьба — это Медея. Она появляется в небе на крылатой колеснице, подле нее трупы детей, которых любили и она и Ясон и которых убила взаимная ненависть родителей. Медея теперь достигла предельного величия. Она заплатила за свою победу ценой более дорогой, чем сама жизнь. Ясон шлет ей проклятия, и он же обращается к ней с мольбами. Но слова Ясона, умеющего так искусно жонглировать ими, падают на землю, они не имеют более ни силы, ни смысла.
В своем ужасном триумфе Медея как бы застыла. В ней нет ничего живого, ничего, кроме железа. Бесстрастие, сотрясаемое только жестоким смехом, который она кидает в лицо Ясону. И теперь мы знаем, кто она.
* * *
Кто же она? Ясно, она — чудовище. Но оно так близко нам, что, пожалуй, каждый может стать таким чудовищем. Постараемся понять.
Медея — это прежде всего сердце, объятое страстью. Она любила Ясона. Это несомненно. Она его любила в силу сердечной страсти, но любила также ради славы. Он был одним из ее завоеваний, и это льстило ее тщеславию. Теперь она его ненавидит. Кажется, что ненависть в ней взяла верх над всем. Она ненавидит в Ясоне не того, кого она еще любит, как это случается. Ее ненависть вызвана и утраченной любовью и оскорбленной гордостью: она ненавидит в Ясоне того, кто ее унизил, того, кто олицетворяет отрицание ее собственной силы. И чтобы вновь утвердить в глазах других и в особенности в своих собственных глазах эту отвергнутую силу, она убивает своих детей, смертельно ранив тем же ударом их отца, мстя ему тем самым за свое унижение.
Она любит своих детей. Они ее «любимые». Она любит эту светлую улыбку, от которой замирает ее сердце.
…упало
И сердце у меня, когда их лиц
Я светлую улыбку вижу…
(Там же, с. 1233–1235)
Она любит их всегда: и тогда, когда нежно ласкает, но также и тогда, когда убивает их. Она их убивает затем, чтобы ее враги не смеялись над ней. Она их убивает потому, что ее наводящая ужас жажда господства превратилась в ней в «демона» (слово это много раз встречается в тексте), над которым она уже не властна. И «демон» этот не есть ли сила, пришедшая извне? Или это преступная ярость, обитающая в неосознанных глубинах ее существа? Возможно и то и другое. Медея этого не знает, она знает только то, что эта сила сильнее ее воли, и она говорит это.
Все это не только реальная психология силы, и силы чрезвычайной. Ясная воля Медеи уступает ее страсти. Эта страсть живет в ней и владеет ею. Это элемент демонического, обитающий в ее нежном сердце матери. Это психология, но — иначе говоря — это также одержимость. Силы психологические неотличимы от сил, которые управляют вселенной. А мы сами, отделимы ли мы от вселенной? И вот вопрос: куда ведет психологический реализм, открытый Еврипидом? Еврипид подчеркивает в демонической страсти Медеи нашу принадлежность к миру в целом, нашу зависимость от «космоса». Но осознать это — значит в некотором роде освободиться от этой зависимости. Правда трагедии — это сила, которая освобождает.