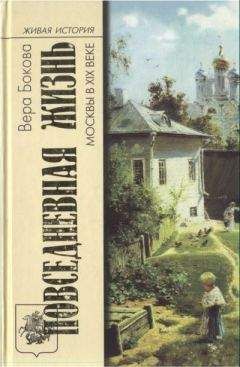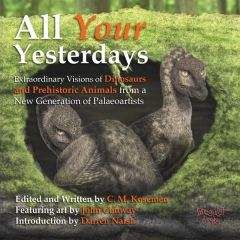К характеристике князя А Б. Куракина можно прибавить, что его прозвище было «бриллиантовый князь», и вполне заслуженно, потому что пристрастие Куракина к бриллиантам было велико и общеизвестно: его костюм был украшен бриллиантовыми пуговицами, пряжками и аксельбантами; камни блестели на его пальцах, часовой цепочке, табакерке, трости и прочем, и в полном блеске он был запечатлен на своих многочисленных портретах, в частности и на том, что был написан В. Л. Боровиковским и хранится в Третьяковской галерее.
Каждое утро «бриллиантового князя» начиналось с того, что камердинер подавал ему стопку пухлых альбомов, в каждом из которых содержались образцы тканей и вышивок многочисленных княжеских костюмов, и Куракин выбирал наряды на предстоящий день. К каждому костюму полагались своя шляпа, обувь, трость, перстни и все остальное, вплоть до верхнего платья, в одном стиле, и нарушение комплекта (табакерка не от того костюма!) способно было надолго вывести князя из себя.
После смерти от оспы невесты, графини Шереметевой, Куракин навсегда остался холостяком и почти до смерти ходил в завидных женихах, что не мешало ему к концу жизни обзавестись почти восемьюдесятью внебрачными детьми. Некоторые из его потомков числились крепостными, другим он обеспечил дворянство и даже титулы — бароны Вревские, бароны Сердобины и другие — и оставил наследство, из-за которого потом долго шла нескончаемая и скандальная тяжба.
Кстати, о прозвищах. В дворянской Москве обожали давать прозвища, что вполне соответствовало патриархально-семейному характеру самого города. К примеру, князей Голицыных в Москве было столько, что, как сострил кто-то, «среди них можно было уже объявлять рекрутский набор» (в рекруты брали каждого двадцатого человека из лиц соответствующего возраста). В итоге почти у всякого Голицына было собственное прозвище — нужно же было их как-то отличать друг от друга. Был Голицын-Рябчик, Голицын-Фирс, Юрка, Рыжий, Кулик, Ложка, Иезуит-Голицын и т. д. Прозвище князя Н. И. Трубецкого было «Желтый карлик». И. М. Долгорукова звали Балкон, князя С. Г. Волконского (декабриста) — Бюхна, некоего Раевского, который «порхал» из дома в дом, — Зефир, и т. д.
Не меньшей своеобычностью, чем А. Б. Куракин, отличался живший недалеко от Куракина на Вознесенской (нынешней улице Радио) Прокопий Акинфиевич Демидов. На гулянья и за покупками на Кузнецкий мост он выезжал в экипаже, запряженном шестеркой цугом: впереди две низкорослые калмыцкие лошадки, на которых восседал гигант-форейтор, буквально волочивший ноги по земле; средние лошади были огромного роста — английские «першероны», а последние — крошки-пони. На запятках красовались лакеи — один старик, другой мальчишка лет десяти, в ливреях, сшитых наполовину из парчи, наполовину из дерюги, и обутые одной ногой в чулке и башмаке, а другой в лапте с онучами. Не особенно избалованные зрелищами москвичи валом валили за этим чудным выездом, а хозяин от такой публичности получал несказанное удовольствие.
Страстный садовод, Демидов во всех своих имениях выращивал теплолюбивые растения — фрукты и цветы — и достиг больших успехов (на портрете кисти Дмитрия Левицкого он так и изображен — с лейкой и цветочными луковицами). В его московском доме в грунтовых сараях росли персики, в оранжереях зрели ананасы, а клумбы пестрели самыми яркими и редкими цветами. В сад Демидова мог прийти прогуляться всякий желающий из «чистой публики» — ворота не запирались. И вот повадились к Демидову воры. Они рвали цветы и обдирали незрелые плоды, вытаптывая при этом посадки и обдирая кору с деревьев. Огорченный Демидов велел провести расследование и выяснилось, что злодействовали некоторые великосветские дамы, приезжавшие гулять к нему в сад.
Что предпринял бы в подобной ситуации обычный человек — решайте сами, а Демидов придумал вот что. Он повелел снять с пьедесталов украшавшие сад итальянские статуи и поставил на их место дворовых мужиков — совершенно голых и вымазанных белой краской. Как только злоумышленницы углубились в аллею, «статуи» неожиданно ожили и повергли воровок в неописуемый конфуз.
Житье на покое при почти неограниченных средствах позволяло московскому барству всячески чудить. Кто-то отливал себе карету из чистого серебра, кто-то строил дом причудливой архитектуры (владельцев одного такого сооружения на Покровке даже прозвали по их дому «Трубецкими-комод»)… «Другой барин не покажется на гулянье иначе, как верхом, с огромной пенковой трубкою, а за ним целый поезд конюхов с заводными лошадьми, покрытыми персидскими коврами и цветными попонами. Третий не хочет ничего делать как люди: зимою ездит на колесах, а летом на полозках… Воля, братец!.. Народ богатый, отставной, что пришло в голову, то и делает»[35].
Многие современники оставили воспоминания, к примеру, о странностях и причудах Анны Ивановны Анненковой, урожденной Якобий, матери декабриста И. А Анненкова. Дочь очень богатых родителей, поздно вышедшая замуж и рано овдовевшая, Анна Ивановна не была никому обязана отчетом и жила в свое удовольствие. За огромное богатство в Москве ее прозвали «Королевой Голконды». Ночь она превратила в день и ночью бодрствовала и принимала гостей, а днем спала, причем, отправляясь почивать, совершала тщательный туалет, не уступавший выходному. Спать она могла только на шелковых нагретых простынях, только при свете (в ее спальне горели особые лампы, спрятанные внутрь белоснежных алебастровых ваз, сквозь стенки которых просачивалось лишь приглушенное таинственное мерцание) и под аккомпанемент разговора, для чего у ее постели весь день сидели дворовые женщины и вполголоса разговаривали. Стоило им смолкнуть, как барыня тотчас просыпалась и устраивала разнос. Среди прислуги Анненковой была одна чрезвычайно толстая женщина, вся обязанность которой заключалась в том, чтобы нагревать для хозяйки место в карете, а дома — ее любимое кресло. Когда Анненкова собиралась сшить себе платье, понравившуюся материю она скупала десятками метров, всю, что имелась в продаже, чтобы второго подобного наряда больше не было ни у кого в Москве. При всей своей расточительности, когда невеста ее осужденного на сибирскую ссылку сына, француженка Полина Гебль приехала просить денег, чтобы организовать Ивану побег, Анненкова сказала: «Мой сын — беглец? Этому не бывать!» — и денег не дала.
Вообще московское дворянство могло похвастаться множеством ярких типов и индивидуальностей, своеобразно украшавших собою течение скучных будней. Вот, к примеру, так называемые «вестовщики». Это почти всегда были холостяки, по преимуществу средних лет, даже пожилые. Вся видимая деятельность их заключалась в том, что они изо дня в день перекочевывали из одного дома в другой, то к обеду, то в приемные часы, то на вечер, и всюду привозили последние новости и сплетни — как частные, так и государственные, политические. Их можно было увидеть на всех семейных праздниках, на всех свадьбах и похоронах, за всеми карточными столами. Пожилые барыни считали их своими конфидентами и время от времени посылали куда-нибудь с мелкими поручениями. Как и чем они жили, какова была их личная жизнь за пределами гостиных, оставалось для всех загадкой. В их числе еще и в середине столетия известны были князь А. М. Хилков, отставной кавалерист А Н. Теплов, М. А. Рябинин, П. П. Свиньин (вплоть до 1856 года находившийся под полицейским надзором за причастность к делу декабристов), и дворянская Москва не мыслила без этих людей своего существования.
Еще более колоритный тип представляли собой великосветские старушки — знаменитые на весь город старые барыни, которые сохраняли привычки и уклад прошлого века, были живой летописью дворянской Москвы, помнили все ближние и дальние родственные связи, все свычаи и обычаи ровесников и предков, и тем обеспечивали традицию и связь времен. Многие из них пользовались нешуточным авторитетом и влиянием, выступали в качестве блюстительниц общественных нравов и мнений. Иных не только уважали, но и побаивались, как, например, Н. Д. Офросимову, мимо яркой личности которой и Л. Н. Толстой не смог пройти и вывел ее в «Войне и мире» (старуха Ахросимова). Чудаковатая и вздорная, как все старухи, прямая и резкая на язык, Офросимова, что называется, резала правду-матку и делала это прямо в глаза, громко и безапелляционно. Был случай, когда она публично обличила в воровстве и взяточничестве кого-то из московских администраторов, и сделала это в театре в присутствии самого императора, но большей частью общественный темперамент старой дамы изливался в бытовой сфере. К ней, например, приводили на поклон начинавшую выезжать в свет молодежь, особенно барышень — от одобрения старухи во многом зависела светская репутация будущих невест.
Офросимова терпеть не могла тогдашнюю моду и особенно часто возмущалась по адресу щеголей, позволявших себе, как бы сейчас сказали, остромодные вещи. Кто-то после ее выпадов по своему адресу конфузился и уезжал домой переодеваться, но иногда Офросимова получала и отпор. Однажды она сделала какое-то замечание известному франту Асташевскому и тот, против московского обыкновения, резко ее оборвал.