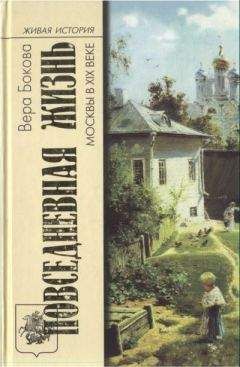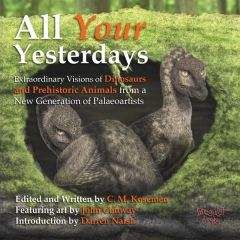Офросимова терпеть не могла тогдашнюю моду и особенно часто возмущалась по адресу щеголей, позволявших себе, как бы сейчас сказали, остромодные вещи. Кто-то после ее выпадов по своему адресу конфузился и уезжал домой переодеваться, но иногда Офросимова получала и отпор. Однажды она сделала какое-то замечание известному франту Асташевскому и тот, против московского обыкновения, резко ее оборвал.
Слегка опешив, Офросимова воскликнула:
— Ахти, батюшки! Сердитый какой! Того и гляди съест!
— Успокойтесь, сударыня, — прехладнокровно отвечал Асташевский. — Я не ем свинины.
В 1860–1870-х годах роль блюстительницы общественной морали играла княжна Екатерина Андреевна Гагарина, тоже говорившая, мешая русский и французский языки, всем в лицо неприятную правду. На поклон к ней по праздникам и в именины ездила вся Москва. Она же была всеобщей благотворительницей, вечно хлопотала за сирот и неудачников.
При всех прихотях и фантазиях, классическое московское барство не замыкалось в собственной среде. Такие богачи, как С. С. Апраксин, А. П. Хрущов, С. П. Потемкин, графы А. Г. Орлов, К. Г. и А. К Разумовские, П. Б. Шереметев, князья Н. Б. Юсупов, Ю. В. Долгоруков, Н. И. Трубецкой и другие были гордостью, щедрыми благотворителями и общими благодетелями Москвы. Они поддерживали и хранили ближнюю и дальнюю родню, сослуживцев и земляков, содержали десятки приживалов, опекали сирот, давали приданое бедным невестам, хлопотали в судах, а еще угощали и развлекали «всю Москву». «Кто имел средства, не скупился и не сидел на своем сундуке, — вспоминала Е. П. Янькова, — а жил открыто, тешил других и сам чрез то тешился»[36].
Вельможи просто обязаны были держать «открытый стол», за которым сходились «званые и незваные», и даже просто незнакомые, так что за ежедневным обедом могли собраться от двадцати до восьмидесяти человек, и «открытый дом», куда можно было запросто, без приглашения, лишь будучи знакомым с хозяином, приехать «на огонек». «Московский вельможа всегда большой хлебосол, совсем не горд в обществе, щедр, ласков и чрезвычайно внимателен ко всем посещающим его дом»[37], — писал П. Вистенгоф. За магнатами тянулись аристократы помельче, за ними — среднее дворянство, и почти все до войны 1812 года жили «открытым домом», селили у себя призреваемых из числа дальней родни и беднейших соседей и презрительно отзывались о скаредных «петербургских», которые уже на рубеже XVIII–XIX веков вводили у себя фиксированные приемные дни («журфиксы») и принимали гостей только в эти дни и ни в какие другие.
Прийти обедать к московскому вельможе мог практически всякий дворянин, оказавшийся в столице и не имеющий здесь родни, хотя, конечно, в первую очередь чем-либо связанный с хозяином — его земляк, однополчанин (хотя бы и в другое время служивший в том же полку) или родственник, пусть и самый дальний. Родство в Москве очень чтили, и всегда только что познакомившиеся дворяне, еще прежде начала настоящего разговора, считали своим долгом «счесться родством». «Родство сохранялось не между одними кровными, но до четвертого, пятого колена во всей силе, — рассказывал современник. — „Ведь ты мне не чужой, — говорили, — бабка твоя Аксинья Федоровна была тетка моему деду, а ты крестник мне, приходите чаще к нам и сказывайте, в чем нужда вам?“ Дружний сын, однофамилец считались домашними, об них пеклись и, представляя другим, просили быть милостивыми к ним. Заболеет кто из тех или других, — хлопотали, посещали, ссужали деньгами. Каждый юноша знал, к какому отделению он принадлежал, кто родственник, покровитель его. (…) Правнучатый брат (т. е. четвероюродный) матери моей, собираясь из деревни в Москву, писал к ней без околичностей: „сестра, приготовь мне комнаты“, — и поднимались страшные суеты: приготовляли флигель, мыли полы, курили, ставили мебели, и свидание походило на торжество»[38]. Как замечал В. Г. Белинский: «Не любить и не уважать родни в Москве считается хуже, чем вольнодумством»[39].
Для визита к «открытому столу» не требовалось никакого приглашения и иных условий, кроме подтверждаемого дворянского происхождения, соответствующего ему костюма (иногда — мундира) и чинного поведения.
Можно было даже не быть представленным хозяину: достаточно было молча ему поклониться в начале и конце обеда. Про графа К Г. Разумовского рассказывали, что одно время в его дом вот так ходил обедать какой-то отставной, бедно одетый офицер: скромно раскланивался и садился в конце стола, а потом незаметно уходил.
Однажды кто-то из адъютантов Разумовского решил над ним подшутить и стал допытываться, кто приглашал его сюда обедать. «Никто, — отвечал офицер. — Я думал, где же лучше, как не у своего фельдмаршала». — «У него, сударь, не трактир, — сказал адъютант. — Это туда вы можете ходить без зову». (Это он врал: хотел покуражиться над провинциалом.)
С этого времени отставник больше не появлялся. Через несколько дней Разумовский стал спрашивать: «Где тот гренадерский офицер, который ходил сюда обедать и сидел вон там?» Выяснилось, что офицера того никто не знает, и где он квартирует, неизвестно. Граф отрядил адъютантов (и того шутника в их числе), чтобы исчезнувшего нашли, и через несколько дней его обнаружили где-то на окраине города, в съемном углу. Граф пригласил офицера к себе, расспросил, и узнав, что привела того в Москву затяжная тяжба и что, дожидаясь решения по ней, он совсем прожился, и дома у него осталась семья без всяких средств, поселил у себя, «похлопотал» в суде, вследствие чего положительное решение по делу последовало почти мгновенно, и потом еще денег дал на обратную дорогу и подарок послал жене, — и все это из одной дворянской солидарности и в соответствии с предписанной для вельмож его ранга традицией.
Колоритное описание обеда за «открытым столом» имеется в одном старинном журнале: «Обыкновенно эти непрошенные, очень часто незнакомые посетители собирались в одной из передних зал вельможи за час до его обеда, т. е. часа в два пополудни (тогда рано садились за стол).
Хозяин с своими приятелями выходил к этим самым гостям из внутренних покоев, нередко многих из них удостаивал своей беседы, и очень был доволен, если его дорогие посетители не чинились, и приемная его комната оглашалась веселым, оживленным говором.
В урочный час столовый дворецкий докладывал, что кушанье готово, и хозяин с толпою своих гостей отправлялся в столовую… Кушанья и напитки подавались как и хозяину, так и последнему из гостей его — одинакие. Столы эти… были просты и сытны, как русское гостеприимство. Обыкновенно, после водки, которая в разных графинах, графинчиках и бутылках стояла на особенном столике с приличными закусками из балыка, семги, паюсной икры, жареной печенки, круто сваренных яиц, подавали горячее, преимущественно состоявшее из кислых, ленивых или зеленых щей, или из телячьей похлебки, или из рассольника с курицей, или из малороссийского борща…
За этим следовали два или три блюда холодных, как то: ветчина, гусь под капустой, буженина под луком… судак под галантином… разварная осетрина… После холодного непременно являлись два соуса; в этом отделе употребительнейшие блюда были — утка под рыжиками, телячья печенка под рубленым легким, телячья голова с черносливом и изюмом, баранина с чесноком, облитая красным сладковатым соусом; малороссийские вареники, пельмени, мозги под зеленым горошком… Четвертая перемена состояла из жареных индеек, уток, гусей, поросят, телятины, тетеревов, рябчиков, куропаток, осетрины с снятками или бараньего бока с гречневой кашей. Вместо салата подавались соленые огурцы, оливки, маслины, соленые лимоны и яблоки.
Обед заканчивался двумя пирожными — мокрым и сухим. К мокрым пирожным принадлежали: бланманже, компоты, разные холодные кисели со сливками… мороженое и кремы. Эти блюда назывались мокрыми пирожными, потому что они кушались ложками; сухие пирожные брали руками. Любимейшие кушанья этого сорта были: слоеные пироги… зефиры, подовые пирожки с вареньем, обварные оладьи и миндальное печенье… Все это орошалось винами и напитками, приличными обеду… Желающие кушали кофе, но большинство предпочитало выпить стакан или два пуншу, и потом все откланивались вельможному хлебосолу, зная, что для него и для них, по русскому обычаю, необходим послеобеденный отдых»[40].
Московские вельможи периодически устраивали праздники, на которые мог прийти любой горожанин, вне зависимости от происхождения. И многие из «магнатов» делали это с удовольствием и размахом. В московское предание конца XVIII века вошли праздники, которые давал у себя в ближней подмосковной — Кусково — граф Петр Борисович Шереметев. Устраивались они регулярно летом (с мая по август) каждый четверг и воскресенье и вход был открыт всем — и знатным, и незнатным, и даже не дворянам, лишь бы одеты были не в лохмотья и вели себя благопристойно. Гости в Кусково валили валом и от души следовали приглашению хозяина «веселиться, как кому угодно, в доме и саду». «Дорога кусковская, — вспоминал Н. М. Карамзин, — представляла улицу многолюдного города, и карета обскакивала карету. В садах гремела музыка, в аллеях теснились люди, и венецианская гондола с разноцветными флагами разъезжала по тихим водам большого озера (так можно назвать обширный кусковский пруд). Спектакль для благородных, разные забавы для народа и потешные огни для всех составляли еженедельный праздник Москвы»[41]. Одних театров в Кускове было три, и в них играли собственные шереметевские крепостные актеры — в их числе знаменитая Прасковья Жемчугова, на которой в конце концов женился сын Шереметева — Николай Петрович.