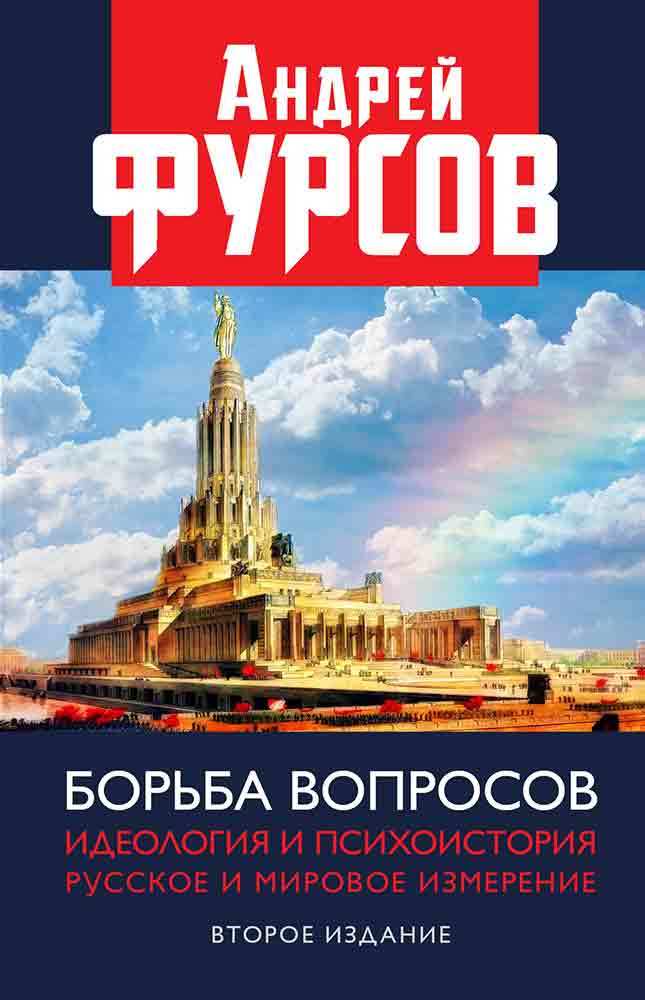логику, по сути – концепция некритически заимствована им по политическим причинам у либеральной мысли.
Примеры нарушения собственной логики как возмездия за погоню за мифом – социальным и личным – можно множить, однако здесь в этом нет нужды. Ясно одно: обуживание, зауживание мысли приводит к плохим результатам – и тем худшим, чем мощнее мысль. А ведь Марксу приходилось зауживать себя не только по политическим причинам, но и, так сказать, по интеллектуально-коммуникативным.
Итак, революция, о необходимости которой все время после 1848 г. говорил Маркс, не произошла, а ведь на 1849 г. он предрекал – ни много, ни мало – восстание французских пролетариев и мировую войну! Wishful thinking. Та революция, что произошла, – Парижская коммуна, удручила и испугала: парижские пролетарии и люмпен-пролетарии улыбнулись смертельной улыбкой, и доктор Маркс напугался [9].
Рабочий класс Европы обманул герра доктора, оказавшись не столь революционным и вполне успешно интегрировавшимся, вписывающимся в буржуазное общество – то самое, могильщиком которого предписали ему быть своим «Манифестом» «ученые товарищи Маркс и Энгельс». Пророчества Маркса не сбылись. В XIX в. не сбылись. А в XX – сбылись. Или, точнее, показалось, что сбылись – спасибо ученым товарищам Ленину и Троцкому – в России в 1917 г. После этого Маркс-пророк начал триумфальное шествие как сам по себе, так и на советских танках по дорогам Европы, пешком по долинам и взгорьям Китая, джунглям Вьетнама и т. д., пока не «налетел» на французских студентов, Че Гевару и аятоллу Хомейни.
И все же репутация пророка не была тесно связана с самими пророчествами Маркса. Ленины и Троцкие побеждали не в соответствии с логикой и пророчествами Маркса, а во многом вопреки им. А выглядело, будто в соответствии с ними. На таком фоне забывались, казались неважными и многие ошибочные прогнозы и суждения Маркса. Как тут не вспомнить замечание Г. Манна о том, что Маркс был эффективен и до сих пор остается таким, хотя его работа принесла не те результаты, которые он обещал [10].
Маркс-философ? У Маркса, безусловно, была некая философия. Но можно ли назвать его философом? Спорный вопрос. Думаю, в целом удачно ответил на него Р. Хейлброунер, отметивший, что хотя марксизм – не философия, Маркс – не философ, но у его системы, бесспорно, есть философские основания [11]. Осмысление социальной действительности с философских позиций – так охарактеризовал подход Маркса Э. Гулднер в своей книге «Два марксизма» (1980). Обо всем этом можно спорить. Однако, бесспорно, что Маркс не создал новой философии. Правда, после Гегеля философия в строгом смысле слова, пожалуй, действительно могла развиваться лишь по пути Шопенгауэра и Ницше – подобно тому, как, например, действительным развитием живописи после изобретения дагерротипа мог быть, пожалуй, лишь импрессионизм. Наследники философии (включая гегелевскую) по прямой оказались эпигонами и имитаторами. Маркс избежал этого. И все же он не стал философом. Точнее: избежал, потому что не стал.
Как экономист Маркс во многом устарел уже к концу XIX в., что неудивительно: экономически «мир Маркса» перестал существовать к концу XIX в. И уже Бем-Баверк, этот «австрийский Маркс», убедительно критиковал различные аспекты теории Маркса. Критиковали и другие. Критиковали по-разному и за разное. В том числе и за трудовую теорию стоимости. Необходимо признать, что, несмотря на эрудированность, прежде всего в экономической (политико-экономической) области, Маркс оказался наиболее уязвим (и наименее интересен) именно как профессиональный экономист. Прав Ж. Бодрийяр, считающий, что Маркс так и не смог довести до конца критику классической политэкономии [12], хотя связано это не только с экономической теорией Маркса. Впрочем, в слабости Маркса как экономиста я готов усмотреть и его силу, или, скажем так, эта слабость в качестве профессионального экономиста есть проявление силы Маркса, того главного в нем, в его теории, что делает его интересным и перспективным и в наши дни.
Я рад, что не один так думаю, а в хорошей компании, например, с Й. Шумпетером, чью точку зрения по причине ее афористичности имеет смысл привести на языке оригинала. Назвав Маркса гением и пророком, Шумпетер заметил: «Geniuses and prophets do not usually excel in professional learning, and their originality; if any, is often clue precisely to the fact that they do not» [13].
В другой работе Шумпетер прямо говорит о том, что для него самое важное не качество экономических исследований Маркса как узкого специалиста, а его общая проницательность как человека, мыслителя; не столько сам экономический анализ и его результаты, сколько преданалитический познавательный акт [14].
Преданалитический акт – это, прежде всего, общий метод, теоретический подход, общая, а не специализированно-экономическая, а социально-историческая теория – разумеется, у кого она есть. У Маркса была, и уже это хороший ответ тем, кто обвиняет его в экономцентризме и экономдетерминизме. Маркс довольно рано понял, что экономическая теория сама по себе не может объяснить долгосрочного экономического развития, как сказали бы теперь, экономического развития в longue duree; long run economics должна обладать историческим измерением, т. е. должна быть элементом более широкой и качественно более сложной и многомерной теории, чем экономика с ее одномерным homo oeconomicus. Как заметил все тот же Шумпетер, среди первоклассных экономистов Маркс был первым, кто понял, как можно превратить экономическую теорию в исторический анализ «и как исторический нарратив можно превратить в histoire raisonnee… Это также отвечает на вопрос… насколько экономическая теория Маркса увенчалась успехом в реализации его социологической системы (set-up). Она не увенчалась успехом; в этой неудаче (и этой неудачей) она формирует (establishes) цель и метод» [15].
Шумпетер, конечно же, прав в том, что сила Маркса – в его методе, в его научной программе, основанной на принципах историзма и системности, в его социально-исторической теории. Но прежде чем говорить о программе, теории и методе Маркса, необходимо начать с проблемы идеологии вообще и марксизма в частности, поскольку теория Маркса тесно связана с определенной идеологией. В свою очередь, проблема идеологии (и связанной с ней теории) влечет за собой проблему эпохи. Итак, теория (научная программа), идеология и эпоха. Начнем с эпохи.
2. Эпоха: концы и начала
Эпохи часто являются в большей степени ключом к системам идей и теориям, которые в эти эпохи возникают и которые, помимо прочего, призваны их объяснить, чем эти теории и идеи – ключом к самим эпохам, «ибо не знает человек времени своего» (Экклезиаст).
Гераклитовское «борьба – отец всего» в большей степени отражает реальность малоазийских греческих городов, чем объясняет ее; равновесные модели Т. Парсонса и неравновесные модели И. Пригожина прежде всего социоморфически отражают свое