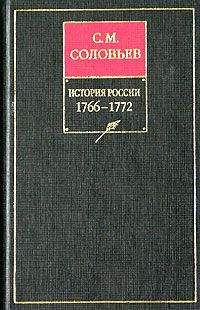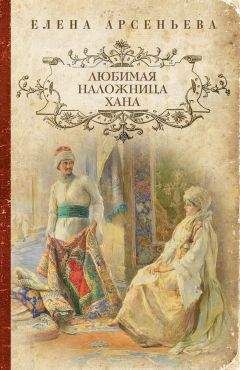Обо всех замыслах и движениях в Польше знал смоленский воевода Шеин, который посылал в Литву, за рубеж, своих лазутчиков; они приносили ему вести, слышанные ими от своих сходников, т. е. людей подкупленных, которые, сходясь в условленных местах с русскими лазутчиками, уведомляли их обо всем, что у них делалось. Но не от одних лазутчиков-крестьян узнавал Шеин польские новости: у него был подкуплен в Польше какой-то Ян Войтехов, который непосредственно на письме доносил ему обо всем. В марте 1609 года Войтехов писал ему, что по окончании сейма королевич хотел было идти на Москву, но приехал воевода сендомирский и посол от Лжедимитрия вместе с послами от тушинских поляков с просьбою к королю и панам, чтоб королевича на Московское царство не слали, ибо они присягнули тушинскому царю головы свои положить, хотя б и против своей братьи. Войтехов сообщил также вести и из Тушинского стана, писал, что крутиголова Димитрий хочет оставить Тушино и утвердиться на новом месте, потому что весною смрад задушит войско; весною же хочет непременно добыть и Москву. Войтехов писал, что сендомирский воевода на сейме именем Димитрия обязался отдать Польше Смоленск и Северскую землю, и если б Мнишек в этом не присягнул, то поляки непременно хотели посадить королевича на царство Московское. Войтехов писал также, что много купцов польских приехало домой из Тушина и сказывают, будто Лжедимитрий хочет бежать, боясь Рожинского и козаков, что у него нет денег на жалованье польскому войску, которое будто бы говорит: «Если бы царь московский заплатил нам, то мы воров выдали бы, а из земли Московской вышли», что Шуйскому стоит привлечь к себе Заруцкого с его донскими козаками, и тогда можно сжечь тушинские таборы. О самом себе Войтехов писал: «Пришлите мне, пожалуйста, бобра доброго черного самородного, потому что меня слово обошло за прежнее письмо к вам, так надобно что-нибудь в очи закинуть». Шеину сообщали также слухи, ходившие в Литве о самозванцах, писали, что вор тушинский пришел с Белой на Велиж, звали его Богданом, и жил он на Велиже шесть недель, а пришел он с Белой вскорости, как убили расстригу, сказывал, что был у расстриги писарем ближним; с Велижа съехал с одним литвином в Витебск, из Витебска – в Польшу, а из Польши объявился воровским именем. Петрушка, что сидел в Туле, и теперь живет в Литве, и прямой он сын царя Феодора, а вместо его в Москве повесили мужика. Борисов сын, Федор Годунов, также жив и теперь у цесаря христианского.
Между тем у пограничных жителей московских и литовских по обычаю происходили ссоры, наезды. По этому поводу начальники пограничных областей – староста велижский Александр Гонсевский, бывший недавно послом в Москве, и смоленский воевода Шеин должны были войти в сношения друг с другом. Гонсевский звал Шеина на порубежный съезд для решения спорных дел; Шеин в такое Смутное время боялся принять на себя за это ответственность, особенно когда ему доносили, что Гонсевский нарочно для того и приехал в Велиж, чтоб подговорить смольнян к сдаче королю. Шеин упрекал Гонсевского за то, что он не выполнил условий договора, заключенного им с товарищами в Москве, что поляки не выведены из Московского государства и оттого происходит страшное кровопролитие. Гонсевский отвечал: «Ты хочешь, чтоб польские и литовские люди были выведены из Московского государства, но каким образом это сделать? Грамотами королевскими? Грамоты были посланы к ним; король хотел послать еще гонца, и велел мне обо всем этом переговорить с тобою, но вы сами от доброго дела бегаете, держась своего обычая московского: брат брату, отец сыну, сын отцу не верите; этот обычай теперь ввел царство Московское в погибель. Я знаю, что у вас, у государей, и в народе такой доверенности, как у нас, нет, и тебе, по обычаю московскому, нельзя было со мною съезд устроить; зная это, я писал тебе, чтоб ты объявил о деле архиепископу и другим смольнянам и с их ведома съезд устроил: но и это не помогло. Припоминая себе дела московские, к которым, будучи в Москве, пригляделся и прислушался, также и нынешнее ваше поведение видя, я дивлюсь тому: что ни делаете, все только на большее кровопролитие и на пагубу государству своему». Гонсевский был прав на словах, но вовсе не прав на деле, потому что он-то и известил короля о желании бояр иметь царем Владислава, он-то и теперь всех больше хлопотал о сдаче Смоленска, как прямо сам король сказал Жолкевскому; следовательно, известия, полученные Шеиным о замыслах Гонсевского, были вполне справедливы и Шеин имел полное право не доверять велижскому старосте.
Надобно было готовиться к обороне, принимать меры предосторожности; но в такое Смутное время трудно было рассчитывать на всеобщее усердие, на всеобщее повиновение: стрелецкие сотники и дети боярские отказывались стоять на стороже против поляков. А между тем из-за границы приходили вести одна другой страшнее о движениях Сигизмунда. Донесение Войтехова, что обещания Мнишка, данные на сейме, удержали поляков от войны, оказалось ложным; в мае 1609 года лазутчики донесли Шеину, что король строго запретил сендомирскому воеводе и всем вообще полякам ходить к Москве. В июле доносили, что Гонсевский идет с нарядом под Смоленск, что туда же в следующем месяце ждут самого Сигизмунда, что Гонсевский приводил жителей пограничных московских волостей к присяге на имя королевское. Вести были справедливы. В Минске съехался с королем гетман Жолковский и расспрашивал о подробностях касательно предпринимаемого похода, хотел знать, что ручается королю за успех его? Те, которые обнадеживали Сигизмунда, говорили, что пока он находится далеко, то боярам московским трудно отозваться в его пользу, и потому, чтоб заставить их высказать свое расположение, королю необходимо спешить к границам. В Минск пришло письмо от Гонсевского, который настаивал, чтоб король как можно скорее выступал под Смоленск беззащитный, ибо ратные люди смоленские ушли на помощь к Скопину. Сигизмунд выехал из Минска, а в Орше свиделся с литовским канцлером Львом Сапегою, который также убеждал короля спешить походом. Сапега пошел вперед к Смоленску, беспрестанными записками побуждая к скорости и Жолкевского, которому очень не нравилась вся эта поспешность и, как ему казалось, необдуманность: опытному полководцу странно было предположить, что такая сильная крепость, как Смоленск, захочет сдаться войску, в котором было только 5000 пехоты. Несмотря на то, 19 сентября нетерпеливый Сапега уже стоял под Смоленском, 21-го прибыл туда и сам король; всего войска собралось, кроме 5000 пехоты, 12000 конницы, 10000 козаков запорожских и неопределенное число татар литовских; запорожцев было также не всегда одинаковое число, потому что часть их отъезжала за кормами; в числе 12000 конницы было много волонтеров, которые, набравши добычи, разбегались. Число осажденных, способных к обороне, полагают до 70000.
Перейдя границу, Сигизмунд отправил в Москву складную грамоту, а в Смоленск – универсал, в котором говорится, что по смерти последнего Рюриковича, царя Феодора, стали московскими государями люди не царского рода и не по божию изволению, но собственною волею, насилием, хитростию и обманом, вследствие чего восстали брат на брата, приятель на приятеля, что многие из больших, меньших и средних людей Московского государства и даже из самой Москвы, видя такую гибель, били челом ему, Сигизмунду, чтоб он, как царь христианский и наиближайший родич Московского государства, вспомнил свойство и братство с природными, старинными государями московскими, сжалился над гибнущим государством их. И вот он, Сигизмунд, сам идет с большим войском не для того, чтоб проливать кровь русскую, но чтоб оборонять русских людей, стараясь более всего о сохранении православной русской веры. Потому смольняне должны встретить его с хлебом и с солью и тем положить всему делу доброе начало, в противном же случае войско королевское не пощадит никого. Смольняне отвечали королю, что у них обет положен в дому у Пречистой богородицы: за православную веру, за святые церкви, за царя и за царское крестное целование всем помереть, а литовскому королю и его панам отнюдь не поклониться. Посады были пожжены, жены и дети служилых людей, бывших в войске Скопина, перебрались из уезда в крепость, но крестьяне в осаду не пошли и даточных людей не дали, потому что король обольстил их вольностию. Смольняне посылали челобитные в Москву с просьбою о помощи, но вместо помощи царь Василий мог присылать им только милостивые грамоты. Несмотря на то, осажденные решились защищаться отчаянно, и если вступали в переговоры с королем, то единственно для того, чтобы выиграть время. При этих переговорах смольняне прямо говорили посланным королевским, что они хвалят Сигизмунда за его доброе расположение, но опасаются его подданных, на которых положиться нельзя. Если бы король и обещал что-нибудь под клятвою, то поляки не сдержат его слова по примеру стоявших под Москвою, которые, уверяя, что сражаются за русских, сами забирают семейства их и разоряют волости. Таким образом, кроме враждебных пограничных отношений, издавна господствовавших между литвою и смольнянами, последние не могли сдаться Сигизмунду вследствие слабости королевской власти в Польше, вследствие недостатка ручательства в том, что обязательства, королем данные, будут исполнены его подданными. Некоторые из смольнян объявили еще, что они не хотят терпеть от поляков того же, что терпели от них жители Москвы во время первого Лжедимитрия, и потому решились умереть верными царю Василию и скорее собственными руками умертвят своих жен, чем согласятся видеть их в руках поляков. Трудно было полагаться и на обещания самого Сигизмунда, который, уверяя смольнян, что будет охранять их веру, в Польше объявил, что начал войну преимущественно для славы божией, для распространения католической религии. Между причинами, побуждавшими смольнян к сопротивлению, можно положить еще и ту, что служилые люди смоленские были в войске Скопина, а семейства их сидели в осаде в Смоленске: эти семейства, разумеется, всеми силами должны были противиться сдаче города Сигизмунду, ибо тогда они были бы разлучены с своими; с другой стороны, присутствие смоленских служилых людей в стане Скопина одушевляло осажденных надеждою, что земляки их непременно явятся на помощь к ним, на выручку семейств своих. Наконец, указывают еще причину сопротивления, именно со стороны богатейших купцов смоленских; они дали в долг Шуйскому много денег: если бы они сдались Сигизмунду, то эти деньги пропали бы.