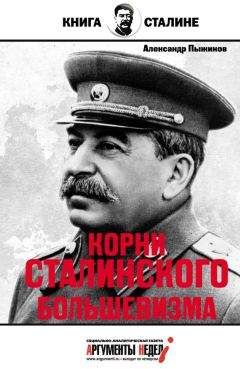И действительно, к середине 1920-х годов это сотрудничество было довольно активным. С началом хозяйственного строительства в коммунистическую партию и советский аппарат хлынули остававшиеся в стране чиновники различных уровней. В качестве специалистов они занимали должности, требующие конкретных знаний и опыта в той или иной отрасли экономики и управления. Профсоюз госслужащих, в 1918 году насчитывавший всего 50 тыс. человек, к началу 1920-го разросся до 550 тыс., а к июлю 1921 года превысил один миллион и превратился в ядро советских профсоюзов[1114]. Среди всех этих людей было немало тех, кто до революции служил вместе с нынешними эмигрантами. Их объединяло общее прошлое, на возврат которого, пусть и в иных формах, они не переставали надеяться. Сегодня, например, выяснено: около трети командиров Красной армии составляли бывшие царские генералы и офицеры, внесшие неоценимый вклад в победу советской власти[1115]. К концу Гражданской войны к этой категории относилось свыше 55 % руководящего состава военного наркомата; после войны они заняли различные должности в военных округах и академиях[1116]. Аналогичная ситуация наблюдалась и в гражданской сфере: чиновники из министерств царской России находились на службе в различных советских ведомствах (в Наркомате путей сообщения их насчитывалось 88 %, в Наркомате торговли и промышленности – 56 %, Наркомпроде – 60 %, Наркомате социального обеспечения – около 40 %, Наркомате госконтроля – 80 %)[1117].
Именно с этой средой связано дело, известное как операция «Трест» и не имеющее аналогов в мировой истории спецслужб. Однако, некоторые внимательные исследователи уверены, что объединенная монархическая организация России (МОР) существовала реально, а не была фантомом, созданным ГПУ[1118]. И входили в нее как раз бывшие царские чины, настроенные промонархически: генералы Шапошников, Лебедев, Потапов, Зайончковский (он возглавлял организацию) и др.[1119]. Ими были установлены тесные связи с эмиграцией; сношения с ее представителями велись по правилам дореволюционной бюрократической переписки, близкой как одним, так и другим[1120]. Один из членов МОР, бывший чиновник Министерства путей сообщения А. А. Якушев, даже совершил поездку к великому князю Николаю Николаевичу. Итогом встречи стало слияние, пусть и номинальное, белогвардейского Российского общевоинского союза генерала Кутепова с МОР, действовавшей в СССР[1121]. Кстати, программа МОР состояла в отказе от интервенции и методов террора; акцент делался на проникновение в советский аппарат и концентрацию кадров, способных взять в свои руки управление государством[1122]. И, по-видимому, эта установка реализовывалась весьма активно. Как утверждают специалисты по истории спецслужб, масштаб деятельности организации уже начал мешать некоторым центральным наркоматам, ведущим торговлю и имевшим иные контакты с заграницей. В 1926–1927 годах там были убеждены, что положение в советах изменится в ближайшем будущем, и потому не спешили подписывать контракты с советскими учреждениями[1123]. (Добавим, что в этой теме немало «белых пятен», которые предстоит заполнить будущим историкам.)
Мы упомянули о политике «правых», включая ее оценку в эмигрантской среде, чтобы подчеркнуть одно важное обстоятельство. Все, кто продвигали и приветствовали данный курс, имели в виду главную цель – восстановление великой России. Предстоящее экономическое оздоровление напрямую увязывалось с обретением страны, потерянной в революционных бурях. (Кстати, это вполне созвучно идее построения социализма в одной стране.) Напомним важную деталь: «правый» коммунизм имел преимущественно «русское лицо», что резко отличало его от инородческой оппозиции Троцкого-Зиновьева. Хотя нужно оговориться, что главный идеолог этой политики, Бухарин, представлял собой русофобский тип ничем не уступавший тому же Зиновьеву в ненависти ко всему русскому. Бухаринская приверженность к русскому крестьянину имела не национальный, а сугубо прагматический характер; он говорил, что это составная часть классовой «борьбы за крестьянские души, которая идет сейчас во всей Европе, Америке и во всем мире, эта борьба в своеобразной форме обостряется и у нас…»[1124]. Бухарина явно беспокоило, что ставка на крестьянство делалась и в эмигрантских кругах, начиная с монархистов и заканчивая эсерами[1125]. Не одобрял он также контактов с Русской православной церковью: они наметились в 1924–1927 годах в форме компромисса с частью консервативного духовенства[1126]. Иными словами, Бухарин, как разработчик экономической базы правого курса, не стремился конвертировать русские национальные предпочтения в конкретную политику.
Этим вместо него с успехом занялся Сталин, сумевший придать противостоянию с оппозицией национальный оттенок и усилить тем самым свой политический вес. Коммунистическая система вобрала в себя среди прочих и тех, кто был склонен усматривать в советском строе определенные национальные черты. Именно такие взгляды выражал Сталин, расценивавший это как необходимую национальную легитимацию действующей власти[1127]. Общественным символом этой легитимации в тот период стала пьеса М. А. Булгакова «Дни Турбиных» (по роману «Белая гвардия»), поставленная в 1926 году МХАТом. Ее лейтмотив – смелое по тем временам предсказание грядущего восстановления «Великой России» (оно звучит в споре двух белых офицеров)[1128]. Спектакль имел ошеломляющий успех и помог прославленному МХАТу, восстанавливавшему позиции после войны, обрести своего зрителя. Пьесу смотрели и некоторые лидеры партии, причем Сталин – неоднократно. Такое внимание будущего вождя к национальной риторике дало основание некоторым исследователям считать, что выразителем тайных сталинских мыслей, неким сталинским «духовником» являлся один из эмигрантских идеологов Н. В. Устрялов[1129]. Не беремся судить об этом, но слово «тайный» в данном контексте справедливо: в середине 1920-х обращение к русскому национализму (кроме негативного) не стало еще официальным.
Тем не менее, почва для русского национального движения в большевистском обличье, бесспорно, существовала. Как описать этот поворот, и сегодня вызывающий симпатии? Конечно, он традиционно рассматривается в качестве антипода интернационализму. И его опоры весьма далеки от большевистской классики: богатеющее крестьянство, городская нэпманская буржуазия, национальная идея, компромисс с частью консервативного духовенства. Можно утверждать, что перед нами программа возрождения России, осмысленная в никонианском духе. Освящение института собственности – как богохранимой, всегда было прерогативой церкви; русская земля – это территория, где заправляют крепкие хозяева, исповедующие государственную, то есть никонианскую, а не какую-либо иную религию. Такая идиллическая картина (пусть с неизбежными оговорками) совпадала и с чаяниями эмиграции. Не случайно в «Днях Турбиных» Булгакова о «Великой России» говорит белогвардеец, собирающийся воссоздавать ее вместе с «правильными», национально-ориентированными большевиками. Необходимо отметить и такую особенность: программа возрождения России не имела альтернативы – в том смысле, что другой национальной программы не мыслилось в принципе, а были только злобные антирусские выпады.
Существует точка зрения, что один из таких выпадов инициировал все тот же Сталин, уничтожив НЭП, возобновив массовые гонения на церковь и т. д., то есть предав русское дело. Причем для этого он вооружился троцкистско-зиновьевскими идеями, которые громил несколькими годами ранее. На наш взгляд, эта традиционная для исследовательской литературы схема является крайне упрощенной и нуждается в серьезных коррективах. Прежде всего, она исходит из парадигмы частнособственнической реставрации России с соответствующими социальными и духовными атрибутами; все, что препятствует подобному возрождению или затрудняет его, признается противоречащим подлинному русскому духу. Однако при этом игнорируется тот факт, что в советском обществе – а именно в широкой пролетарской среде – существовали и другие тенденции. Напомним: во второй половине двадцатых годов продолжается мощный приток в ВКП(б) кадров из крупных индустриальных центров. Инспирированный сверху рабочий призыв рассматривается в русле борьбы с троцкистско-зиновьевской оппозицией, как подспорье нарождающемуся русскому национализму. Ведь подавляющее большинство вступавших в партию пролетариев составляли этнические русские, кровно заинтересованные в избавлении от инородческого засилья и в национальном возрождении.