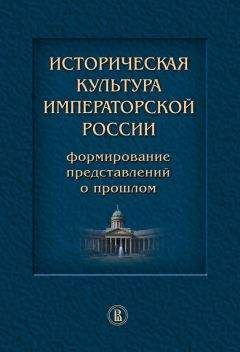власти были не столь готовы к нововведениям, как провозгласил Буажелен. Папа Пий VI отнес к «ложному учению» все акции религиозной политики революционного Собрания, отвергнув самое Декларацию прав и провозглашенный в ней постулат свободы совести. Свобода каждого «мыслить, как ему угодно, даже в вопросах религии», виделась понтифику таким же абсурдом, как право индивида подчиняться лишь тем законам, «на которые он сам дал свое согласие» [600].
Когда Учредительное собрание приняло декрет о присяге духовенства на верность Конституции (ноябрь 1790) с предостережением об отстранении от должности тех, кто не присягнет в недельный срок, папа в послании 13 апреля 1791 г. ответил контругрозой: всем служителям культа надлежало в течение 40 дней отречься от присяги под угрозой отлучения, а пастве воспрещалось посещать службы присягнувших [601].
В результате духовенство разделилось примерно поровну на присягнувших и неприсягнувших, и после примирительных акций, когда последним было разрешено временно исполнять свои функции там, где их поддерживают прихожане, возникла ситуация «существования двух Церквей» (Фюре) [602]. Наибольшее значение имела отчетливая географическая регионализация церковного дуализма: в Центре, а также в Аквитании и приальпийских департаментах духовенство присягало (80—100 %), на Западе, к юго-востоку от Центрального массива (Лозер) и на северо-востоке (Эльзас) большинство священнослужителей не присягнуло [603].
Решающим фактором церковного раздела современные исследователи от Тимоти Текетта до Моны Озуф называют отношение паствы. В одних случаях вопили «Присяга или галеры!», в других – срывали принятие присяги. Региональная дифференциация 1791 г., замечает Озуф, в целом представляет прообраз религиозной ситуации 1960-х годов: там, где священники отказывались от присяги, жители до сих пор продолжают активно посещать службу. С эпохи Революции, таким образом, «установилось прочное разделение между клерикальной и антиклерикальной Францией» [604]. Само собой, оно отразилось и в политической географии Франции, став границей между противниками и сторонниками Республики, а затем – между консервативным и левоцентристским электоратом.
Подтверждается ли концепция Делюмо о размежевании Франции верующей и Франции религиозного индифферентизма? Озуф считает, что ее трудно как подтвердить, так и опровергнуть, поскольку если последний можно измерить посещаемостью церковной службы, то об интенсивности религиозного чувства исследователю не дано судить [605]. Осторожность в трактовке сознания прошлых времен современным ученым справедлива, но можно сослаться на наблюдения именно того времени.
«Религия местного населения, – свидетельствовали комиссары, посланные для проведения присяги в департаменты Вандея и Дё-Севр (центры сопротивления), – т. е религия в том виде, в каком она им осознается (очень тонкое уточнение. – А.Г.), сделалась для него самой сильной и, так сказать, единственной моральной привычкой в его жизни. Наиболее ощутимым объектом этой религии является культ икон, а служитель этого культа, в котором деревенские жители усматривают раздатчика небесных милостей, который, по их убеждению, способен жаром своих молитв унимать капризы погоды, который, наконец, держит в своих руках ключи загробного мира, – пользуется самой живой и нежной привязанностью сельского населения (курсив мой. – А.Г.)» [606].
Можно говорить и об усилении религиозного рвения, об обостренном ощущении связи с потусторонним; подтверждалась известная закономерность: преследования усиливают религиозные чувства искренне и глубоко верующих. Бедность помещений, в которых приходилось вести службу неприсягнувшим, непритязательность атрибутов (переносной алтарь, ситцевая риза, оловянные чаши), напоминая верующим о «первых веках Церкви и колыбели нашей святой религии», должны были, как указывал один из мятежных иерархов, стать «могущественным средством для возбуждения ревности служителей Церкви и пыла верующих» [607].
Но те, кто звал священнослужителей и паству к сопротивлению революционной власти, видимо, не учитывали (не хотели учитывать?) другую закономерность: рвение приверженцев одной доктрины вызывает аналогичное рвение сторонников ей противоположной. В этом противостоянии родилась, констатировал Фюре, «антикатолическая революционная культура, пропитанная всей нетерпимостью католического духа» [608].
Наступление на неприсягнувших священников превратилось с началом интервенции антифранцузской коалиции в политику репрессий, а сентябрьские убийства 1792 г. в парижских тюрьмах, когда люди в рясе стали первыми жертвами толпы, творившей самосуд, знаменовали превращение священства в привилегированный объект террористических чувств. Однако если подобные акции можно отнести к эксцессам революционной самозащиты [609], т. е. к политическим актам, то более многозначительны были акции в собственно духовной сфере, в том числе те, что поставили под вопрос существование самой Церкви в лице ее лояльной, присягнувшей части.
Приступив к радикальному огосударствлению Церкви, революционная власть одновременно осуществляла принцип отделения Церкви от государства, и в соответствии с этим принципом лишила священников важнейшей общественной функции – регистрации актов гражданского состояния (рождение, вступление в брак, смерть). Соответствующий декрет Законодательного собрания (20 сентября 1792) о передаче этой функции муниципалитетам в числе прочего открывал священникам матримониальные возможности и даже санкционировал повторное вступление в брак, а это уже оказывалось серьезным вторжением в доктринальную сферу. Вскоре недопустимое католическим каноном обзаведение священников семьей сделалось для них своего рода удостоверением благонадежности; следующим актом на пути обмирщения сделалось собственно отречение от сана.
Вместе с провозглашением декретом Конвента Террора («Que la terreur soit à l'ordre du jour! – «Пусть террор будет в повестке дня!») и утверждением революционной диктатуры («Gouvernement révolutionnaire») осень 1793 г. ознаменовалась попыткой замены традиционной государственной религии культом Разума. Она и стала кульминацией наступления на Церковь. Интерпретация собственно нового культа и событий двух месяцев его насаждения (октябрь-ноябрь) до сих пор остается противоречивой.
Местные церковные предания повествуют об отрядах Революционной армии, грабивших и поджигавших храмы, устраивавших «аутодафе» над священниками. Их принуждали к оставлению сана, над ними издевались, заставляя восседать задом наперед на ослах, жгли рясы и документы о посвящении в сан. В шутовских процессиях и маскарадах пародировались католические обряды. Наиболее символической Озуф называет акцию в Реймсе (7 октября 1793), во время которой комиссар Конвента Рюль разбил священный сосуд для королевского помазания [610]. В общем, констатирует историк, формы профанации церковного культа своим вандализмом «оживляли картины религиозных войн» [611].
Можно вспомнить и практику утверждения собственно церковного культа, способы крещения язычников. Да, то была нетерпимость религиозного толка. Но был ли культ Разума внутренне связан с христианской религией? Церковная и отчасти историографическая традиция это категорически отрицают. Между тем многими священниками, примкнувшими к новому культу, двигало побуждение «христианизировать Революцию», они даже ввели обряд патриотического крещения («baptême civique [612]») как посвящения в культ Разума. Обращение к Разуму как свету Истины воспринималось подобно новому Откровению.
«Великий день, когда истина должна спуститься с неба, наконец, настал», «мои глаза открылись разуму», – приветствовали новый культ люди религиозные. Оппоненты атеистического толка связывали с культом Разума уничтожение всякой религиозности. «Разум и справедливость, – доказывали эти антирелигиозники, – не нуждаются в религии» [613].
В версии об антисоциальности и вандализме культа Разума Мишель Вовель видит