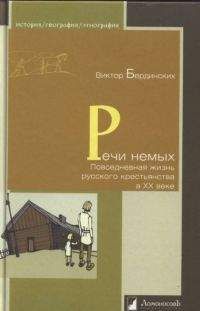Дед Клавдии Васильевны (по линии матери) Василий Кузьмич, будучи человеком богомольным, совершил в свое время паломничество ко Гробу Господню — в Иерусалим. Он сплавился с плотами до Астрахани, а там с какой-то группой паломников потихоньку, пешим ходом дошел до Святой земли. Вернулся он домой через три года, принес какие-то дешевые сувениры (по своему карману): бумажные литографии, деревянный кипарисовый крестик, шапочку. Последнюю я еще помню, так как, когда в детстве меня уронили в детском саду со стула и я тяжело заболел, на меня ее надевали. Считалось, что она помогает от родимца.
В браке с Андреем (он стал примаком и перешел жить к ней в дом из дома своей мачехи, что стоял напротив) у них родилось пять детей — двое умерли (старший сын Василий умер уже в пятнадцать лет от воспаления легких), а три дочери остались: Алевтина (1914), Нина (1920) и Лидия (1927). Последняя и стала моей матерью. Таким образом, село Жерновогорье, а точнее, заречная часть города Советска, а по метрике просто город Советск (до революции богатая с хорошей пристанью на реках Пижме и Вятке торговая слобода Кукарка), — стала моей родиной, где я безвыездно жил до семнадцати лет — до полного окончания средней школы.
В нашей заречной части была своя школа — четвертая восьмилетняя с двумя параллелями и тремя учебными зданиями, двумя деревянными и одним кирпичным (бывшей спичечной фабрикой местного купца), в которых я постепенно и проходил курс школьных наук. Школьные годы были достаточно тихие и безмятежные, вполне обычные для любого местного школьника. Всегда радовала местная природа: заливные Бобыльские луга в междуречье Пижмы и Вятки с дубняком и духовитой луговой клубникой, реликтовый сосновый бор — Печеновский лес, чудные леса за Вяткой с брусникой и черникой, ближние озера: Подгорное, Светлое — с замечательной рыбалкой. Был я ягодником и рыбаком, большим любителем путешествий на велосипеде по окрестным селам и деревням. Учился всегда хорошо, считался, как говорят, ударником.
Отец умер, когда мне было всего одиннадцать лет. Он был всю жизнь шофером. Были, говорят, и у него какие-то необычные для села склонности; во всяком случае, перед войной ему, деревенскому пареньку, закончившему шесть классов, выдали направление в Горьковское театральное училище. Поехать туда не удалось из-за войны. Он был призван на фронт в 1942 году — 18-летним мальчишкой. Рассказывал, что брали тогда и семнадцатилетних, так что нередко в окопах ребята, в жизни не бывавшие нигде дальше своего соседнего села, увидев танки, кричали «мама» и плакали.
Я был завзятым читателем и перечитал дома весь небольшой запас книг, а заодно и учебники своего старшего брата (разница у нас шесть лет) по гуманитарным предметам. Потом, быстро записавшись в районную детскую библиотеку, стопками носил книги из нее — глотал их довольно быстро.
Начитавшись героической литературы о войне, где один наш храбрец десятками берет в плен фашистов, я допытывался у отца, сколько фашистов убил он и какие подвиги совершил. Рассказы были совершенно для меня странны и непонятны: о том, как перед мощными немецкими укреплениями зимой погнали в наступление полк сибиряков (на верный убой) и те все полегли. А весной, когда часть отца стояла в этих окопах и солнышко согнало снег, — они все вытаяли и задвигали руками и ногами. О том, как в наступлении на одну ужасно трудную высотку впереди пошел штрафбат (я и не знал такого слова — в книжках его не было) и тоже почти весь полег. У отца было две медали — «За отвагу» и «За боевые заслуги», он воевал командиром отделения танкового десанта — ехали в наступление на броне, и тут их щелкали, как орешки; имел два тяжелых ранения и одно легкое. После второго тяжелого ранения в ногу (точь-в-точь такое же, как у моего деда Андрея Федоровича в Первую мировую) его комиссовали, дали инвалидность и отправили из госпиталя домой. Вернулся он на костылях, так как одна нога совершенно не работала, и год отлеживался у матери на печке. Но медицина шагнула вперед, операция в госпитале была сделана хорошо. И, в отличие от своего будущего тестя, нога в колене стала гнуться нормально, но поскольку сухожилие было сильно подрезано, то в походке он все же припадал несколько на эту ногу и раскачивался из стороны в сторону.
Из четверых братьев — двоих убило на войне, а двое вернулись живыми. Один из убитых (старший — Иван), будучи офицером и зная, что в деревне голодно, высылал свой аттестат матери. После его гибели и конца войны бабушка пошла в сельсовет выправлять себе пенсию или пособие по потере кормильца. Председатель сельсовета грубо накричал на нее:
— У тебя же два сына вернулись с фронта — неужели они тебя не прокормят?! Стыдись, у людей-то всех ведь убили — и то не ходят, не просят! Пристыженная, она повернулась и, несолоно хлебавши, ушла домой. Поэтому на старости лет она осталась совсем без пенсии и жила в доме моего дяди Николая Александровича до самой смерти — лет эдак до восьмидесяти двух. Из четверых ее сыновей: Иван и Леонид — погибли на фронте, а двое — Николай и Аркадий — пришли инвалидами после тяжелых ранений.
И летом, и зимой все сельские развлечения были к нашим услугам: купание в озере и на реке, рыбалка, походы за грибами и ягодами. Дом был свой — с огородом, поэтому немалое время отнимала и помощь по дому: дрова, уборка снега, работа в огороде.
Мать, Лидия Андреевна, всю жизнь отработала лаборантом на местном хлебном элеваторе. Семья ее жила бедно, голодно, она пошла работать в 1942 году — четырнадцати лет от роду, сразу после окончания семилетней школы. Учиться хотелось — в педучилище или медучилище, бывших неподалеку, но родителям нужна была рабочая карточка (600 граммов хлеба) работающей, а не иждивенческая (200 граммов хлеба), иждивенцев в доме было и так полно.
Родители мои женились по любви в 1949 году и стали жить в доме тетки — Ольги Васильевны (сестры бабушки Клавдии), муж которой умер, а все трое сыновей погибли на войне. Дом был большой — с чуланами, обширными сенями, мастерской на первом этаже и огромной русской печкой, на которой так сладко было долгими зимними вечерами читать сказки или рассказы про пограничников, слушая завывание ветра в трубе. В огороде была своя банька, кусты черной смородины (хорошо плодоносившие) и вишня с яблоней, обильно цветущие каждый год, но не дававшие плодов. Держали в хозяйстве козу Муську, которая меня почему-то терпеть не могла и при каждом удобном случае бодала своими рогами, поросенка и с десяток пестрых кур. С той поры мое любимое молоко — козье.
Большое впечатление в школе на меня оказал наш классный руководитель в пятых — восьмых классах, учитель географии Владимир Иванович Сушенцов. Он окончил Ленинградский университет, и его рассказы о дальних странах, пиратах и флибустьерах, путешествиях по Кавказу были очень увлекательны.
В девятом-десятом классах я учился уже в городе — в средней школе № 1 Советска — и очень благодарен учителям, учившим меня: Любови Васильевне Шелапугиной (классному руководителю, которая всю душу вкладывала в свой класс), Валентине Степановне Ворониной — учителю истории, да и всем другим предметникам, заложившим прочные основы моих школьных знаний.
После окончания школы в 1973 году я поступил на исторический факультет Нижегородского (тогда Горьковского) госуниверситета. Все пять лет я жил в студенческом общежитии факультета на Ульяновке — в старой части города, недалеко от кремля и волжского Откоса, — и это стало для меня мощной школой житейского жизненного опыта. В общежитии жили студенты со всего Союза: из Украины, Белоруссии, Средней Азии (туркмены, таджики, узбеки — целевики), Горьковской области.
Свободы для студентов было очень много: вечерами кипели жаркие споры по политическим, культурным, национальным проблемам. Свободомыслия было «от пуза». Будучи студентом, был, пожалуй, самым свободным человеком за свою жизнь. Летом, как правило, ездил в Крым: на археологическую или педагогическую практику, путешествовал.
Занимался с удовольствием, получал повышенную стипендию, на которую тогда можно было с небольшими добавками жить. Изучал русскую историю XIX века — эпоху декабристов. На эту тему и написал дипломную работу, получив по окончании диплом с отличием. Моим научным руководителем в университете был кандидат исторических наук Владимир Николаевич Сперанский, один из самых умных людей, с которыми мне довелось встречаться в жизни. Ум его был настолько глубок, что как-то обессиливал сам себя, лишал его творческой силы.
На факультете, в преподавательской среде, постоянно кипели жаркие страсти, гремели звонкие скандалы с политическим душком. Мой шеф был из группы гонимых, человек под подозрением, поскольку некогда в 1968 году подписал какое-то коллективное письмо против ввода советских войск в Чехословакию. Процветали кланы и группировки, сплетни, подкопы (все это в преподавательской среде, хотя частично преподаватели вовлекали верных им студентов в сферу своего влияния). При мне процветал клан одного профессора — блестяще умного и талантливого человека с очень своеобразными представлениями об этике и морали. Его питомцем и прямым наследником стал нынешний декан истфака университета, которого я тоже хорошо помню.