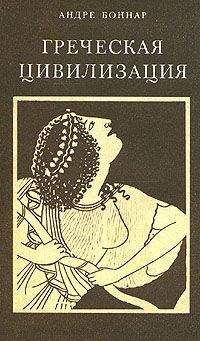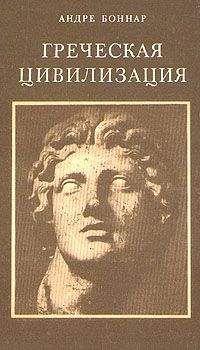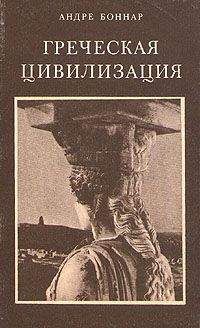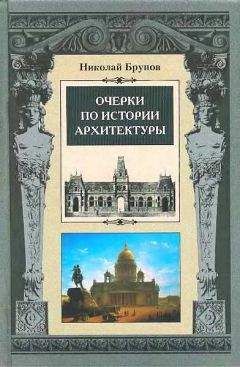Однако даже если в эту эпоху и можно говорить о повседневном употреблении железа, тем не менее этот металл все же труднее было получать, чем медь и бронзу. Температура в тысячу восемьдесят три градуса расплавляет медь и отделяет ее от ее каменистой жильной породы. Олово, которое смешивается с ней, чтобы образовать бронзу, плавится уже при двухстах тридцати двух градусах. Но железо — оно-то плавится только при тысяче пятистах тридцати пяти градусах! Кроме того, так как железная руда всегда встречается в форме окиси, нужно, чтобы освободиться от ее кислорода, иметь уголь в очень большом количестве, то есть нужны большие кузнечные мехи и доменные печи. Ничего этого не было в Александрии.
Вот множество препятствий, которые встали бы перед Героном, если бы он захотел завершить свое изобретение и утилизировать паровую машину. Но главная причина в том, что для людей той эпохи не существовало никакого довода, который побуждал бы их к замене рабского труда трудом машин. В конечном счете эта история «паровой машины», оставшейся без применения, чрезвычайно поучительна. Ее мораль в том, что цивилизации не могут преодолеть иных препятствий в своем развитии, если только их не сметает воля подымающихся масс. Применение в новое время паровой машины Дени Папина (с какими осложнениями!) и Уатта совпадает с подъемом класса буржуазии в XVII и XVIII веках. Какой подъем, подобный этому, мог бы привести к распространению паровой машины Герона во времена, когда едва зародилась мысль о ее возникновении?
Но в то же время следует заметить, что почти немыслимо, чтобы какое-нибудь великое человеческое открытие погибло навсегда в истории человечества. В этом странном расцвете-гибели, которого человеческое сознание достигло в наши дни, человек кажется в иные моменты только беспомощным детищем многочисленных случайностей. Но это только кажется. В действительности на всем протяжении всего этого фантастического приключения, этой сказки тысячи и одной ночи, повторенной тысячу, сто тысяч раз, то есть на протяжении всей человеческой истории, имелось действующее лицо, всегда присутствующее, всегда, с каждым веком все более светлое, более сознательное, более активное, действующее лицо, исправлявшее несчастные случайности, возвращавшее жизнь мертвым семенам, для того чтобы они прорастали среди густой листвы, отягченной плодами будущего, грядущего нам навстречу (так говорили греки), и которое ежеминутно становится нашим настоящим; это действующее лицо есть Гений человека.
Ничто в надеждах народа никогда не пропадает.
ГЛАВА XV
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОЭЗИИ. КАЛЛИМАХ. «АРГОНАВТИКА» АПОЛЛОНИЯ РОДОССКОГО
Может быть, после миража научных исследований и открытий александрийская поэзия покажется бледной.
Лучшее, что можно сказать о ней, — это то, что она стремится в наиболее значительном из своих направлений не повторять предшествующей поэзии и не быть «академичной».
Каллимах — это глава нового александрийского Парнаса. Имя этого Буало новой поэтической эпохи господствует над всей александрийской поэзией во времена Птолемея Филадельфа. Каллимах вызывал у поэтов своего времени преклонение, послушание, вдохновение и порой возмущение.
«Аргонавтика» Аполлония Родосского — это и есть акт возмущения молодого поэта против поэтических приказов и запретов преподавателя Мусейона, главы школы александрийцев.
Кто же он, этот Каллимах? Его жизнь представляет примерную кривую жизни поэта-эрудита. Это уже жизнь литератора. Остановимся на трех моментах. Первый — это борьба, имеющая целью пробить себе дорогу, это нужда скромного руководителя начальной школы, жителя провинции Кирены, который открывает свою школу в предместье Александрии, который считает себя и хочет быть поэтом и который на досуге пишет свои первые поэмы-манифесты, свои первые эпиграммы и свои поэмы-прошения, адресованные всемогущему монарху. Бедняк, чуть-чуть соприкоснувшийся с жизнью богемы, позволяющий себе легкие подозрительные любовные увлечения или по крайней мере изображающий их в своих стихах.
Второй момент: лесть монарху теперь уже точно нацелена — это успех, это кафедра красноречия или поэзии в Мусейоне, благосклонность публики, милости властей, официальное положение в Библиотеке, заказы двора, пособия. Это в то же время провозглашение новой поэтической доктрины, публикация поэм мастера, которые должны его прославить.
Наконец, третий момент: зависть соперников, нападающих на преуспевающего поэта и учителя, литературные споры, возбуждаемые молодежью, пожимание плечами тех, кому меньше тридцати лет. Война эпиграмм и сатирических памфлетов, где защищаются или поносятся преждевременно устаревшие теории почтенного маэстро.
Все это мы скорее угадываем, чем точно знаем. Большая часть работ утрачена. Мы знаем об этих работах только то, что они давали лишь поэтические «образцы» доктрины. Эта доктрина была приемлема. Несчастье в том, что Каллимах не был поэтом настолько, чтобы давать образцы этой новой поэзии, правильно им понимаемой.
Но Каллимах был разумным человеком. Он удерживался от того, чтобы предписывать своим современникам подражание великим поэтам прошлого, ставшим классическими. Он представляет собой антипод академизма. Далекий от того, чтобы предписывать, он, напротив, подвергает гонению это подражание классикам, подражание, которое уже тяжким бременем лежало на всем художественном творчестве. Он знает, что старые поэтические жанры мертвы. Больше не ссылаются ни на Гомера, ни на трагиков. Он осуждает банальность циклической поэмы, в которой эпос тщетно пытается пережить самого себя. «Я ненавижу циклическую поэму, — писал он в одной эпиграмме, — банальный путь, по которому все проходят… Я не пью из общественных водоемов… Общедоступные вещи мне противны». И в другом месте: «Течение ассирийской реки так же мощно, но оно несет в своих волнах много грязной земли, много тины. Для Део жрецы не приносят какой попало воды, они несут такую воду, которая бьет из земли, чиста и прозрачна, ключевую воду — несколько капель, но высшей чистоты!»
Итак, вместо могучей эпической реки, нередко тинистой, поэма пусть будет источником чистой воды, тонкой струйкой воды, но такой, каждая капля которой драгоценна. Каллимах хочет произведений кратких, но чеканных. «Большая поэма, — писал он, — это большое бедствие». Он выступает в защиту ценности мастерства, он заботится о техническом совершенстве. Он оказал услугу художнику, напомнив ему о необходимости мастерства. Он, таким образом, сделал возможным высокое техническое совершенство Феокрита. Можно было бы сказать, что он требует вовсе не Виктора Гюго и его величия, иногда несколько небрежного, но Жозе Мариа Эредиа и его тщательной работы. Конечно, труд не заменяет вдохновения, и Каллимах знает это, но в эпоху осуждения слишком легкого вдохновения в творчестве, в эпоху, когда первому встречному доступно произвести на свет трагедию в пяти действиях (как мы бы сказали) или соскользнуть на склон дактилического гекзаметра (метр Гомера, наш александрийский метр трагедии), чтобы написать на мифологическую тему какую-нибудь эпическую поэму в двадцати четырех песнях, в такую эпоху требовать от поэзии, чтобы она снова стала трудным искусством, — это значит спасти поэзию. Это значит спасти поэзию от академизма, который для нее равносилен смерти.
Не будем думать, однако, что Каллимах, восстанавливая честь искусства, излагает теорию искусства для искусства или теорию чистой поэзии. Для него большое значение имеют сюжеты. Какими же они будут?
Каллимах просто и честно требует, чтобы поэтические сюжеты имели отношение к новым интересам нового мира. Если он отбрасывает эпическую поэму и драму, то делает это не только из-за их формы, что я отметил, но также и потому, что героическое, составляющее их основу, стало вещью общепризнанной и не интересует больше его эпоху. Битва «Илиады», борьба трагического героя против судьбы, даже фатальность страсти в произведениях Еврипида — одним словом, конфликт человека с окружающими его условиями, являвшийся главным содержанием прежней поэтической литературы, этот коллективный порыв мрачного недовольства, который в борьбе, направленной поэтом против судьбы, приводил к тайной и парадоксальной радости поверженного героя, умирающего ради общества и ради славы, — все это возбуждало в человеке жизненную силу, но, вероятно, уже не могло развиваться далее — все это уже не стояло на первом плане у александрийцев, не интересовало их или большинство из них. Героизм больше не представляется им чем-то таким, что затрагивало бы их лично. Боги — это для них уже не действующее начало, не таинственное побуждение к борьбе, с тем чтобы лучшие люди в этой принятой ими борьбе превзошли себя. Боги уже на пути к тому, чтобы стать лишь прибежищем, где можно найти утешение, где человек забудет и себя и свое несчастье. Может быть, все это недостаточно ясно было продумано людьми той эпохи. Попросту отодвинуто в сторону. Люди теперь преследуют свои индивидуальные интересы. Это отдельные личности, которые более не отдаются ни величию города, ни служению богам, редко большой страсти. Никакая слава не представляется им теперь достаточно притягательной для того, чтобы с радостью вступить в борьбу. Мелкие, полуобразованные горожане, прочно обосновавшиеся в своем комфорте и в своей культуре. Героизм для них — напыщенная условность, созданная богами старого режима. Каллимах писал с большой непринужденностью: «Гром не от меня, он от Зевса». Он претендует на литературу, которая была бы его литературой, и она будет на уровне его чаяний, его карьеры. Однако она будет скромнее и искреннее, чем литература тех, кто удовлетворился бы подражанием героизму.