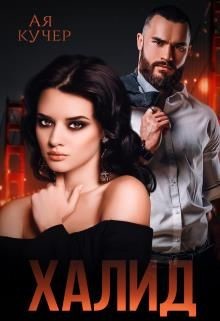чтобы удержаться на плаву [440]. Оставались и технические проблемы: станки устарели, шрифтов недоставало, с бумагой дело обстояло еще хуже. В Самарканде было всего две типографии, где имеющиеся в наличии шрифты находились в столь плохом состоянии, что, как заметил Ходжи Муин, «если попадется невнимательный наборщик или бумага плохого качества, то даже автор не сумеет прочитать свой собственный текст» [441]. По-настоящему ситуация изменилась после территориального размежевания 1924 года, когда советская пресса сделалась вполне устойчивой и почти невосприимчивой к давлению рынка.
Помимо того, у партийных властей было мало средств для политического контроля над содержанием периодики, поскольку отсутствовала реальная возможность осуществления цензуры: те, кому был поручен надзор, не обладали необходимым знанием языков. Отдел агитации и пропаганды Средазбюро (агитпроп) регулярно составлял отчеты о действиях национальной прессы, но всегда постфактум; в лучшем случае этот орган годился для наблюдения за газетами и их редакторами, но не для предотвращения публикации недопустимых материалов. Национальная периодика редактировалась коммунистами-мусульманами, штаты были укомплектованы местной интеллигенцией. Поэтому неудивительно, что советская среднеазиатская пресса 1920-х годов демонстрировала поразительную преемственность традиций джадидской прессы дореволюционного периода. Она ставила себе целью не предоставлять сведения об обществе, которому служила (функция «сообщения о погоде» практически полностью отсутствовала), а скорее просвещать и преобразовывать его. Она критиковала, называла имена, указывала пальцем и высмеивала тех, кого считала помехами на пути реформ. Крупной вехой в этом отношении стало появление в 1923 году в Ташкенте и Самарканде иллюстрированных сатирических журналов (приложений к издаваемым партией газетам), где публиковались язвительные комментарии по самым разным темам. Публикация в них карикатур, зачастую очень ярких, имела особое значение, поскольку с их помощью преодолевался барьер, создаваемый повсеместной неграмотностью, типичной для этого региона. Кроме того, пресса служила форумом для культурных дискуссий интеллигенции, как партийной, так и беспартийной. Именно в статьях, публиковавшихся в национальной прессе, местная интеллигенция обсуждала вопросы образования, языка и национального самосознания [442]. Политический язык местной периодики, как правило, был более свободным, чем его русский аналог или язык, использовавшийся во внутрипартийных дебатах. Таким образом, жалобы на поведение русских, недовольство медленными темпами коренизации и ущемлением прав местного населения – все это были ярко выраженные особенности национальной печати.
Лишь в 1927 году, со вступлением в борьбу новой когорты «работников культуры», удалось добиться большего соответствия прессы партийным директивам.
Книгоиздание преобразилось в гораздо большей степени. В первые годы советской власти в Туркестане издавалось крайне мало книг. Прежних книготорговцев сменило государственное издательство, которое начало функционировать только в 1921 году. В 1922 году оно выпустило 223 наименования на узбекском, 103 на казахском и 292 на русском языке [443]. Бухарское правительство профинансировало издание ряда книг, но организовать государственное издательство ему так и не удалось [444]. Новые издания выглядели иначе (все они были отпечатаны типографским способом) и отличались ощутимо иным содержанием, чем дореволюционная книга. Основные жанры старого книгоиздательства – поэзия, религиозные труды, популярная история – совершенно исчезли, сменившись «полезными текстами», такими как учебники, политические брошюры, и небольшим количеством подчеркнуто современных литературных произведений.
Революция также изменила географические горизонты культурного производства в Средней Азии. Связи с Турцией ослабели. К концу 1920 года османские военнопленные покинули Туркестан, а в 1922 году были высланы из Бухары. Международные границы, сделавшиеся столь прозрачными в 1918–1919 годах, вновь были укреплены, и самовольные поездки за рубеж прекратились. К 1923 году турецкие издания уже не были доступны в Средней Азии. Хотя среднеазиатские интеллектуалы на протяжении всего десятилетия жадно следили заходом событий в Турции, активное участие в них было уже невозможно [Khalid 2011:468–470]. Однако в Советском Союзе продолжало существовать более обширное тюркское пространство, которое включало в себя татарские территории, Азербайджан и Крым и в котором свободно распространялись тексты и перемещались люди. В 1920-е годы среди первых сотрудников узбекской советской прессы было немало татар, мало того, значительную долю новых, советских изданий в Средней Азии составляли переводы татарских книг. Многие из самых ранних произведений политической литературы на узбекском языке были переведены с татарского или через татарский язык, а современную прозу на узбекском языке в значительной степени составляли переводы татарской и азербайджанской художественной литературы. Татарская, крымско-татарская и азербайджанская литературы вобрали в себя различные течения культурного радикализма, подобные описанным здесь среднеазиатским течениям первого послереволюционного десятилетия. Их эволюция была взаимосвязана, они подпитывали друг друга. Реформа орфографии и пропаганда латинизации (см. главу 8) – пожалуй, наиболее наглядные примеры деятельности этого общего тюркского пространства, но оно функционировало и в других направлениях. Фитрат во время пребывания на посту министра просвещения БНСР переписывался с мусульманскими деятелями всего СССР [445]. Важным местом притяжения узбекских студентов был Баку. В 1926 году крымско-татарский лингвист Бекир Чобан-заде читал лекции в Высшем педагогическом институте в Самарканде, где преподавал и Фитрат. Чобан-заде знал Фитрата по Стамбулу, где тоже учился, перед тем как получил докторскую степень в Будапеште [446].
Новым источником вдохновения стала Москва. До 1917 года лишь очень немногие среднеазиаты учились в Петербурге или Москве. С 1921 года советские власти начали систематически направлять туркестанских студентов в Москву. Многие шли на рабфаки, а в Коммунистическом университете трудящихся Востока, основанном в 1921 году, возник значительный туркестанский контингент. Бухарское правительство создало в Москве свой Дом просвещения – отправную точку для поступления бухарских учащихся в российские вузы; это учреждение было унаследовано Узбекистаном и продолжало функционировать до конца десятилетия. Прочие студенты учились в обычных университетах и институтах, причем не только технических. И не только члены Коммунистической партии получали образование в Москве. Абдулла Кадыри в 1924/25 учебном году был студентом Брюсовского литературно-художественного института, а Чулпан три года (1924–1927) работал в Узбекской драматической студии. Фитрат в 1923–1924 годах 14 месяцев находился в московской ссылке. Бату провел в советской столице шесть лет: учился сначала на рабфаке, а затем в Московском государственном университете. Большинство из тех, кто приезжал в Москву, уже знали русский, остальные овладевали им уже после приезда. Эти контакты ввели в узбекскую литературу новые влияния и жанры. Поэт Алтай (А. А. Баис-Кариев) был зачинателем футуристической поэзии на узбекском языке [447]. Чулпан переводил на узбекский язык Шекспира и Тагора, Чехова и Гоголя, а драматическая студия знакомила узбекскую сцену с новыми методами. Из Москвы приходили не только новые жанры, но и новые политические установки и терминология.
Новые формы, новое содержание
Главным очагом преобразований для джадидов был театр. По словам Бехбуди, это «место назидания» (ибратхона), где общество может осмыслить свои беды [448]; само