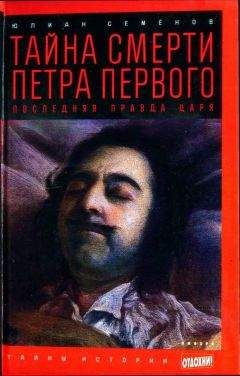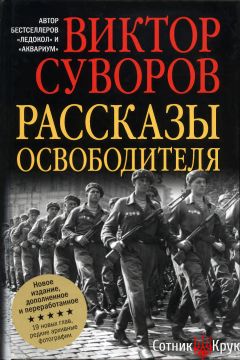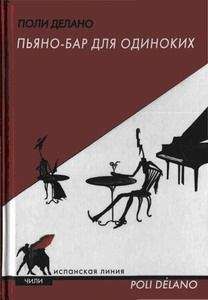- Хорошо. Я скажу. Я тебе скажу все.
"Боже мой, я не знаю, что сказать, - поняла вдруг Гуровская, - он сразу же ощутит ложь. Боже мой милосердный!"
- Ну?
- Влодек, любимый, дай мне прийти в себя. Я не могу опомниться. Я тебе расскажу, все расскажу, только чуть позже. Ладно?
- Нет. Ты мне все расскажешь сейчас.
- Боже мой, но почему все так жестоки?! Это связано с партией, понимаешь?! С партией!
- Почему ты "погибла" в таком случае?
- Потому что меня заподозрили в провокаторстве.
- Заподозрили или уличили?
- Нет, меня нельзя уличить! Я ни в чем не виновата! Меня заподозрили только лишь...
- "Только лишь", - повторил Ноттен. - Я жду правды, Гелена. Тогда я смогу помочь тебе.
- Мне никто не может помочь, - ответила она тихо, глядя в лицо его бегающими глазами, в которые, казалось, были втиснуты жестокие ободья зрачков, ставшие неподвижными, тоненькими, едва заметными.
Ноттен вышел в соседнюю комнату, чувствуя на спине испуг женщины. Он достал из нижнего ящика стола браунинг, который дал ему Глазов, сунул рыбье, скользкое, холодное тельце смерти в карман, вернулся к Гуровской, заставил себя поцеловать ее, почувствовал сразу, что она поняла это его внутреннее понуждение, и шепнул ей на ухо:
- Я могу тебе помочь. Только я. Потому что я скажу тебе путь к спасению. Я дам тебе револьвер и ты пристрелишь на Сенаторской Шевякова.
Гуровская молчала долго, и он чувствовал, как после упоминания фамилии Шевякова тело ее задеревенело, особенно спина.
- Ты давно знаешь? - спросила она наконец.
- Знаю.
- От кого?
- От Глазова.
- У него лошадиное лицо?
- Да.
- Значит, мы с тобою оба провокаторы? - странно усмехнулась она. - И скрывали друг от друга. Какая прелесть. Я ведь к ним пошла, чтобы...
- Зачем ты к ним пошла?
- Так. Из интереса. Истеричка.
- А я к ним не ходил. Они меня арестовали на твоей квартире, у гектографа. Но я отказался, Лена. Я ничего не сказал им. Я всё сказал Матушевскому.
Спина ее расслабилась, сделалась мягкой, податливой, и странное подобие улыбки осветило вдруг лицо женщины.
- Слава богу, - сказала она. - Не так гадостно, значит, кругом. И не все подобны мне...
Когда Ноттен услышал щелчок выстрела, а потом еще два таких же глухих щелчка, внутри у него что-то оборвалось. По-прежнему вокруг было тихо, слышались только пьяные голоса и музыка - наверное, праздновали чей-то день ангела. На улице было пустынно.
"Только б не уехал извозчик, - повторял, как заклинанье, Ноттен, - только б он не уехал..."
Он повторял это минут уж двадцать, и не потому, что действительно боялся, будто извозчик, получивший пятиалтынный за ожидание, может уехать, но просто фраза эта привязалась к нему, и ни о чем другом он сейчас не мог думать. Потом вдруг понял, что это не его фраза, а слова Глазова, который дважды повторил: "Только б ваш извозчик не уехал".
И в это время распахнулись двери подъезда.
Ноттен сделал было шаг вперед, чтобы схватить Елену за руку и потащить ее через проходные дворы, представляя себе заранее, что после убийства полковника она будет в состоянии невменяемом, но в проеме появился Шевяков, толкавший перед собой Гуровскую, растрепанную, с разбитыми губами. Он держал ее руки в своих, и лицо его было белым, как полотно.
Ноттен ощутил в себе легкость, какую-то особую, неведомую ему ранее, и понял, что сейчас потеряет сознание. Он хотел опустить руку в карман пальто и достать браунинг с маленьким дулом, но не чувствовал в себе сил пошевелиться.
Как в странном сновидении, откуда-то из-за спины Шевякова появился Глазов в шляпе, надвинутой на лицо, выбросил вперед руку, громыхнуло несколько выстрелов. Последний ожег лицо Ноттена, скомкал, повалил, уничтожил...
Гартинг встретился с Мечиславом Лежинским возле Бранденбургских ворот, у самого начала Зигесаллее.
- Дорогой Мечислав Адольфович, - сказал Гартинг, взяв Лежинского под руку, - я делю человечество на два класса - на тех, кто мне приятен, и тех, которые вызывают отвращение. Между ними-то, между двумя категориями этих людей, и происходит постоянно истинно классовая борьба. Не согласны?
- Я слушаю.
- Могу выдвинуть другую тезу. Я правильно говорю - с точки зрения Марксового учения? Теза?
- Точнее - тезис.
- Слишком близко к латыни. Латынь это холод, а я люблю тепло, даже туалет сказал покрасить в розовый цвет: пошлятина, понимаю, но в первое мгновенье там всегда холодно, даже в жару. Так вот, извольте, второй тезис. Мир - это постоянная борьба мужчины и женщины, все остальное - мура собачья. И гармонии в сражении за свободу достичь невозможно, поскольку слабый пол далекими своими инстинктами сражается за несвободу, за ограничение нашей воли, за подчинение нашего естества жупелу семьи, дома, благополучия: каждая семья - это мир в миниатюре, Мечислав Адольфович...
- Реферат не хотите в нашем клубе прочесть? - поинтересовался Лежинский. Вас бы там очень лихо разложили.
- Смотря как посмотреть. Позиция моя - абсолютна. Ее невыгодно признавать - другое дело. Я знаю мнение по этому вопросу доктора Любек, так ведь конспираторски Розу зовут?
- Так.
- Не зря хлеб ем, - вздохнул Гартинг, - идет работа. А доктор Любек в чем-то сходится со мной...
Лежинский увидал кого-то в толпе, сжал руку Гартинга:
- Юзеф... Быстро уйдем куда-нибудь!
- Юзеф? - переспросил Гартинг, повернувшись профессиональным филерским "заворотом на месте". - Дзержинский?
- Кажется.
- Не кажется, а именно так: я его портрет узнал.
- У вас его безусый портрет должен быть.
- С усами тоже есть. У нас тут фотографы отменно работают.
- Если он меня спросит, с кем был, что отвечать?
- Господи, скажите - знакомый! Влас Родионович Голопупов. Купец. Да потом здесь со мной можно спокойно ходить - никто меня из ваших не знает.
- Я проваливаться на глупости не хочу. Вы меня куда-нибудь приглашайте от центра подальше.
- Ладно. Едем в один дом: там можно чаю попить.
- Ну вот, товарищ Бебель, - сказал Дзержинский, раскладывая перед социал-демократическим депутатом рейхстага фотографические карточки. - Это Гартинг с нашим другом на прогулке. Здесь - у входа на его конспиративку, Вагнерштрассе, восемь, около Цвибау. Здесь - он выходит из русского посольства, и ваши гвардейцы ему честь отдают. Очень хорошо получилось на фотографии, нет? Это его телефоны - в посольстве и дома. А это список вопросов, которые Гартинг поставил Мечиславу Лежинскому. И таких Гартингов, видимо, в Европе немало. Они губят людей, они шельмуют польских социал-демократов, доводят их до самоубийств или, когда что-то у них не выходит, сами убирают. Сначала - мы проанализировали работу Гартинга по вербовке - Гуровская была жертвой; провокатором она стала потом.
- В России таких Гартингов больше, - сказала Роза Люксембург.
- Да, - согласился Дзержинский, - и они работают, вербуя провокаторов в тюрьмах, после ареста. Там легче распознать - т ю р ь м а сразу чувствует чужого, камера заставляет быть зорким. А здесь? Как быть здесь? Гуровская-то в тюрьме не сидела, значит, здесь ее подхватили? В Берлине? Так же, как пытались с Мечиславом.
- Вы настоящий конспиратор, товарищ Юзеф! - сказал Бебель, глянув при этом на Розу. - Нат Пинкертон должен испытывать к вам зависть. Очень все здорово! Не рассердитесь, если дам совет? В старые времена, когда нам приходилось работать в подполье, Энгельс советовал: "Пока не доведете в с е до конца - не слезайте". Доводите до конца, не слезайте, а я тем временем буду размышлять, как погромче заявить это дело. И не вычленяйте польскую проблему, ударяйте весомей.
Совет старого немецкого социал-демократа заставил Дзержинского проиграть свою любимую игру в "продление жизни" особо внимательно, и он обнаружил целый ряд ошибок, совершенных им не только сегодня, когда кончилось наблюдение за Гартингом, но и все те дни, пока он, договорившись со своим приятелем, репортером "Берлинер Цайтунг" Фрицем Зайделем, делал разоблачительные снимки.
Во-первых, понял Дзержинский, ошибка заключалась в том, что он не наладил контакт с русскими социал-демократами, эсерами и анархистами. Видимо, если бы он координировал свои действия с ленинским эмиссаром в Берлине Валлахом и с друзьями Сладкопевцева, работа против Гартинга могла быть закончена раньше.
Во-вторых, надобно было доказать, что Гартинг имеет прямые контакты с берлинской полицией, а это было упущено, никаких, во всяком случае, документов или фотоснимков получить не удалось, в то время как немецким социал-демократам был необходим п о в о д для начала кампании. Политическая борьба предполагает наличие ф а к т а, который в условиях парламентского государства является единственным серьезным поводом для открытого столкновения с реакцией.
Дзержинский, решивший было сегодня пораньше лечь спать, оттого что последнюю неделю не знал ни минуты отдыха с этим новым для него делом, вышел от Бебеля, сел в метрополитен, именуемый отчего-то "у-баном", и поехал на Марктплац - там жил Фриц Зайдель.