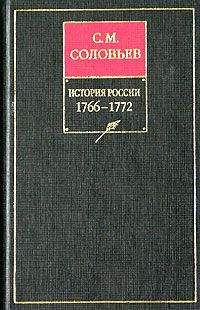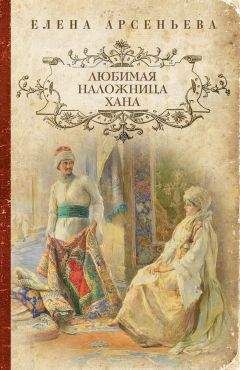Марина, впрочем, напрасно так рано отчаялась в деле своего второго мужа. Отделение от поляков имело для него сначала свою выгодную сторону, ибо до сих пор главный упрек ему состоял в том, что он ляхами опустошает Русскую землю; теперь ссора с поляками освобождала его от этого нарекания. Приехав под Калугу, самозванец остановился в подгородном монастыре и послал монахов в город с извещением, что он выехал из Тушина, спасаясь от гибели, которую готовил ему король польский, злобившийся на него за отказ уступить Польше Смоленск и Северскую землю, что он готов в случае нужды положить голову за православие и отечество. Воззвание оканчивалось словами: «Не дадим торжествовать ереси, не уступим королю ни кола ни двора». Калужане спешили в монастырь с хлебом и солью, проводили Лжедимитрия с торжеством в город и дали ему средства окружить себя царскою пышностию. Но скоро обнаружилось, что и по отделении от поляков самозванец должен был оставаться воровским царем, потому что сила его основывалась на козаках. Князь Шаховской, всей крови заводчик, остался верен самозванцу и привел к нему козаков, с которыми стоял в Цареве-Займище; вероятно, в Калугу манила Шаховского надежда первой роли при Лжедимитрии, ибо там не было более Рожинского.
Чтоб отнять силу у последнего, Лжедимитрий хотел поселить раздор в Тушине и, злобясь особенно на русских тушинцев, показавших мало к нему усердия, хотел вооружить против них поляков. С этою целию Лжедимитрий отправил в Тушино поляка Казимирского с письмом к Марине и другим лицам, где уверял, что готов возвратиться в стан, если поляки обяжутся новою присягою служить ему и если будут казнены отложившиеся от него русские, но письма были отняты у Казимирского и сам он получил запрещение, под смертною казнию, возмущать войско. Рожинский хотел отплатить самозванцу тою же монетою: он дал Казимирскому письмо к прежнему воеводе калужскому, поляку Скотницкому, где убеждал последнего с помощию бывших в Калуге поляков схватить Лжедимитрия и переслать назад в Тушино. Но Казимирский, приехав в Калугу, отдал письмо самозванцу, который тотчас велел бросить в Оку Скотницкого, хотя вовсе не мог быть убежден в том, что этот несчастный исполнит поручение Рожинского; такой же участи подвергся и окольничий Иван Иванович Годунов. Подозревая двойную измену, не веря более ни полякам, ни знатным русским, самозванец хотел жестокостию предупреждать вредные для него замыслы. Но если самозванец не верил знатным русским людям, то холопам и козакам он верил: выгоды их были тесно связаны с его собственными. Так, донские козаки не послушались Млоцкого, убеждавшего их вступить в королевскую службу, и отправились в Калугу. Те из тушинских поляков, которые не хотели соединяться с королем и думали опять сблизиться с Лжедимитрием, более всего надеялись на донских козаков и уговаривали их начать дело, явно двинуться из Тушина в Калугу, уверяя, что если Рожинский пойдет их преследовать, то они, поляки, ударят ему в тыл. Несмотря на несогласие главного воеводы своего, Заруцкого, козаки под начальством князей Трубецкого и Засецкого ушли из Тушина, Рожинский погнался за ними; они остановились и дали битву в надежде получить помощь от самих поляков, но те обманули их, и Рожинский положил с две тысячи козаков на месте, остальные рассеялись по разным местам, некоторые пришли назад в Тушино к Заруцкому.
Отъезд Марины подал повод к новым волнениям в Тушине: ночью 11 февраля она убежала верхом в гусарском платье, в сопровождении одной служанки и нескольких сотен донских козаков. На другой день поутру нашли письмо от нее к войску: «Я принуждена удалиться, – писала Марина, – избывая последней беды и поругания. Не пощажена была и добрая моя слава и достоинство, от бога мне данное! В беседах равняли меня с бесчестными женщинами, глумились надо мною за покалами. Не дай бог, чтобы кто-нибудь вздумал мною торговать и выдать тому, кто на меня и Московское государство не имеет никакого права. Оставшись без родных, без приятелей, без подданных и без защиты, в скорби моей поручивши себя богу, должна я ехать поневоле к моему мужу. Свидетельствую богом, что не отступлю от прав моих как для защиты собственной славы и достоинства, потому что, будучи государыней народов, царицею московскою, не могу сделаться снова польскою шляхтянкою, снова быть подданною, так и для блага того рыцарства, которое, любя доблесть и славу, помнит присягу». В письме Марина объявляла, что она едет к мужу поневоле, но скоро узнали, что она живет в Дмитрове у Сапеги. Рожинский писал к королю, что Марина сбилась с дороги и потому попала в Дмитров, но один из его товарищей по Тушину, Мархоцкий, пишет иначе: по его словам, Сапега переманил к себе Марину обещанием взять ее сторону. Мы не можем отвергнуть этого объяснения, если вспомним, какое житье было Марине при воре, к которому она могла отправиться только по самой крайней необходимости. Как бы то ни было, Тушино волновалось. Собралось коло подле ставки Рожинского; люди, державшие его сторону, т. е. хотевшие соединиться с королем, пришли пешком, только с саблями, ничего не опасаясь от своих, но противники Рожинского, человек сто, приехали верхами с ружьями, а некоторые – и в полном вооружении. Начали рассуждать, к кому лучше обратиться, к королю или к Димитрию? Приверженцы соединения с королем говорили, что стоять за Димитрия нет возможности: Москва его ненавидит, Москва склоннее к королю, чем к нему. Некоторые из противников Рожинского объявили, что лучше вступить в переговоры с Шуйским, им возражали: «Шуйский не будет таким простяком, что станет покупать у вас мир, ведя уж войну с королем». Другие говорили: «Уйдем за Волгу, откроем бок королевскому войску, пусть его сдавит неприятель!» Им возражали, что это будет понапрасну, королю от того не будет никакого вреда, потому что Москва, имея их в земле своей, все же должна будет разделить свои силы. Наконец, некоторые кричали, что надобно возвратиться в Польшу, и на этот крик легко было возражать: «Разъедемся, король не прекратит войны, а мы без службы не обойдемся; потерявши награду за столько трудов, принуждены будем этою же весною вступить в службу за новое жалованье». Не могши противопоставить доказательств доказательствам, противники Рожинского подняли крик: зачинщиком был пан Тишкевич, личный враг Рожинского, раздались ружейные выстрелы в ту сторону, где стоял гетман, приверженцы его отвечали также залпом; коло разбежалось. Противники Рожинского, закричав: «Кто добр, тот за нами!» – выехали из стана в поле и решили ехать в Калугу к Лжедимитрию. Но более благоразумные начали их уговаривать, чтобы до времени остались покойно в Тушине, а если королевские условия не понравятся, то надобно отойти за несколько миль от столицы в согласии и в порядке и оттуда уже расходиться, куда кто хочет. На это все согласились. В таких обстоятельствах Рожинский написал письмо Сигизмунду, где уведомлял его о бегстве Марины и мятеже войска, говорил, что если в положенный срок не получится известие, могущее удовлетворить рыцарство, то трудно будет удержать его от дальнейшего беспорядка. Чтобы избавиться от опасностей, грозивших ему со всех сторон, и от своего войска, и от Лжедимитрия из Калуги, и от Скопина, Рожинскому необходимо было немедленное прибытие короля на помощь, поэтому он старался уговорить Сигизмунда к скорому походу в Тушино, писал, что москвичи очень желают этого, что царь Василий в ссоре с Скопиным; советовал написать письмо к Скопину, которого, по словам лазутчиков, нетрудно будет преклонить на польскую сторону; что русские тушинцы вместе с патриархом Филаретом оскорблены невниманием короля, который не прислал к ним еще ни одной грамоты, также разбойничеством запорожцев в Зубцовском уезде. Но король не трогался из-под Смоленска и не высылал никого в Тушино для окончательных переговоров с рыцарством; вследствие этого Рожинский принужден был покинуть Тушино: он в первых числах марта 1610 года зажег стан и двинулся по дороге к Иосифову Волоколамскому монастырю; немногие из русских тушинцев последовали за ним, большая часть поехали с повинною или в Москву, или в Калугу; Салтыков с товарищами оставались у короля под Смоленском.
Так Москва освободилась от Тушина. Скопину оставалось только разделываться с отрядом Сапеги. Мы оставили Скопина в Александровской слободе, где он продолжал торговаться с шведами, требовавшими новых договоров, новых уступок. Несмотря на сопротивление жителей, Корела была сдана шведам, мало того, царь Василий должен был обязаться: «Наше царское величество вам, любительному государю Каролусу королю, за вашу любовь, дружбу, вспоможение и протори, которые вам учинились и вперед учинятся, полное воздаяние воздадим, чего вы у нашего царского величества по достоинству ни попросите: города, или земли, или уезда». Этим обязательством еще была куплена помощь четырехтысячного отряда шведов. Сапега не мог долее оставаться под Троицким монастырем, 12 января снял знаменитую осаду и расположился в Дмитрове с малым отрядом, потому что большая часть его людей отправилась за Волгу для сбора припасов. В половине февраля русские и шведы подошли под Дмитров; Сапега вышел к ним навстречу и был разбит, Дмитров был бы взят, если б не отстояли его донские козаки, которые сидели в особом укреплении под городом. Здесь также Марина показала большое присутствие духа: когда поляки, испуганные поражением, вяло принимались за оборону укреплений, то она выбежала из своего дома к валам и закричала: «Что вы делаете, негодяи! Я женщина, а не потеряла духа». Видя, что дела Сапеги идут очень дурно, она решилась отправиться в Калугу. Сапега не хотел отпускать ее; в ней родилось подозрение, что Сапега хочет выдать ее королю, и потому она сказала ему: «Не будет того, чтоб ты мною торговал, у меня здесь свои донцы: если будешь меня останавливать, то я дам тебе битву». Сапега после этого не мешал ей, и она отправилась в Калугу опять в мужском платье, то ехала верхом, то в санях. Сапега недолго после нее оставался в Дмитрове: как только пришли к нему отряды из-за Волги с припасами, то он двинулся к Волоколамску, и Скопин мог беспрепятственно вступить в Москву.