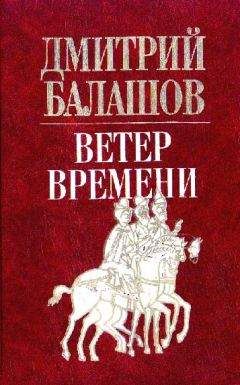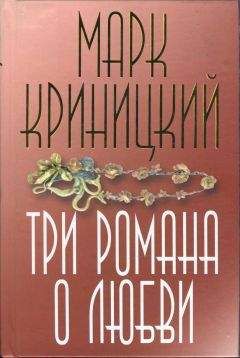Сергий поклонился земно, принял свиток, сорвал печать и, развернувши грамоту, увидел греческие, неведомые ему знаки. Свернувши грамоту, он передал ее в руки Михея и, не тронув более ничего, знаком приказал тому принять и убрать дары, а сам тут же, омывши руки, молча и споро начал готовить трапезу. Последнего, кажется, не ожидали и сами греки, представлявшие что угодно, но только не игумена в сане повара. Вскоре перед греками явилась вынутая из русской печи теплая гречневая каша, соленая рыба, ржаной квас, а также блюдо свежей черники. Нарезанный хлеб был опрятно уложен на деревянную тарель, а поданные ложки имели узорные, тонкой работы, рукояти.
Угощая гостей, Сергий все время думал о патриаршей грамоте. Можно было, конечно, призвать брата Стефана, разумеющего греческую молвь, но внутренний голос сразу отсоветовал ему делать это. В содержании грамоты Сергий не сомневался: это было долгожданное послание об учреждении общежительства. Но учреждение таковое должно было быть сразу освящено не токмо патриаршею грамотой, но и авторитетом Алексия, и потому Сергий, к концу трапезы уже порешивший, что ему делать, распорядясь принять и упокоить греков, устроив им постели и особное житье в монастыре на все время гостьбы в пустующей келье недавно умершего Онисима и проверив, все ли и так ли содеяно, как он повелел, простился с греками, переоделся в дорожное платье и в ночь, как он любил и делал всегда, вышел в путь, засунув в калиту патриаршую грамоту и ломоть хлеба.
Вечерняя свежесть и тонкий комариный звон разом охватили его, лишь только он спустился под угор и, широко ставя посох, легким шагом в легких своих липовых дорожных лаптях устремил стопы по направленью к Москве, достичь которой намерил не позже завтрашнего полудня. Продирался он одному ему знакомыми тропами, спугнув раза два лосей, а единожды кабана, с тяжелым хрюканьем убежавшего, ломая кусты, с дороги преподобного.
Тощие в эту пору года комары почти не досаждали ему, и шел он легко и споро, безотчетно наслаждаясь лесной тишиною в колдовском очаровании восходящей над вершинами елей огромной желтой луны. Ухала выпь, в низинах восставали призрачные руки туманов, и даже жаль стало, когда пришлось наконец, вынырнув из-под полога лесов, ступить на увлажненную ночною росой дорогу, текущую извилистою молчаливой рекой мимо сонных, немых в этот час деревень, где едва взлаивал хрипко спросонь какой-нибудь пес, почуявши легконогого ночного путника.
Он шел, не останавливаясь и не сбавляя шага, пока не засинело, а потом побледнело небо, пока не прокинулись туманы и светлое сияние зари не перетекло на высокие, бледные, отступившие от росной влажной земли небеса. Уже когда золотое светило пробрызнуло сквозь игольчатую бахрому окоема, разбросав пятна и платки света по сиреневой охолодалой дороге, от которой тотчас начал восходить к небесам пар, Сергий присел на пригорок, выбрав место посуше, и пожевал прихваченного с собою хлеба, следя молодыми глазами разгорающуюся зарю. Потом, разбросав крошки от своей трапезы налетевшим неведомо отколь воробьям, подтянул потуже пояс и пошел дальше, без мысли, просто так, подобно распевшимся птахам, напевая про себя псалмы Давидовы, коими и он по-своему славил Господа и красоту созданного им мира.
На подходе к Москве начали встречаться крестьяне, возчики и земледельцы. Бабы выгоняли скотину и, остановясь, сложив руку лодочкой, провожали взглядом монаха-путника, а то и кланялись ему на подходе, в ответ на что Сергий, подымая руку, благословлял их, не замедляя шагов. Его еще не узнавали, как это началось впоследствии, и потому поклоны крестьянок были от чистого сердца, относясь не именно к нему, Сергию, а просто к прохожему старцу, печальнику и молитвеннику, и потому радовали его. Так он шел, и подымалось солнце, зажигая рыжую осеннюю, все еще густую листву, и лес, пахнущий сыростью и грибами, отступал и отступил наконец, освободив место простору убранных полей, и чаще и чаще пошли избы, терема и сады, и близилась, и подходила Москва, в которую когда-то явился он впервые молодым парнем, наряженным на городовое дело, и видел впервые князя Семена в белотравчатом шелковом сарафане, а потом приходил опять и опять в горестях его и беседовал с самим Алексием, тогдашним наместником митрополита, а ныне – много ли лет прошло с тех пор? – приходит, неся с собою послание самого патриарха константинопольского! И было бы все это так же, ежели бы он желал того, сам стремил, стойно Стефану, к почестям и славе? Господи! Истинно даешь ты по разумению своему, и не просить, не желать несбыточного, но достойно нести крест свой – высокая обязанность смертного!
В Кремнике было полно работного люду, кипела муравьиная страда созидания. Сергий не видал Кремника после летнего пожара и потому слегка задержал стопы, обозревая картину, радостную только тем, что люди, сошедшие сюда, явно намеривали воссоздать наново сгоревший город. Ему объяснили, что митрополит остановился не здесь, а у Богоявления. Сергий скоро достиг обители, в воротах которой троицкого игумена едва не задержали, а узнавши, тотчас кинулись повестить Алексию его жданный приход.
Алексий сам вышел в сени навстречу молодому старцу. Внимательно поглядел, просквозив взглядом, и, уверясь в чем-то, очень надобном ему, троекратно облобызал Сергия, тотчас отослав его в церковь и к трапезе. (Самому Алексию предстояло тем часом отпустить двух бояринов, с коими шла нужная молвь о городовом деле.) И вот они сидят друг против друга: заботный Алексий, нынешний русский митрополит, и прежний светлоокий юноша, ставший смысленым мужем и настоятелем монастыря. Сидят, и Алексий как-то вдруг не знает не ведает, о чем ему говорить. Он прочел вслух и перевел Сергию краткое патриаршее послание, где после цветистого обращения и похвал следовал, со ссылкою на пророка Давида, призыв устроить общее житие: «Что может быть добро и красно более, нежели жити братии всем вкупе? Потому же и аз совет благ даю вам, яко да составите общее житие! И милость Божия, и наше благословение да будет с вами». И они опять смотрят друг на друга, и Сергий молчит, чуть улыбаясь, его вопрошание ясно без слов: вот я здесь, и что повелеваешь ты мне теперь, Алексие?
И Алексий, уставно долженствующий ответить нечто, похваливши общее житие, сбивается и спрашивает совсем не о том и не так, как пишется в Житиях:
– Возможешь ты, брате, поднять ношу сию?
Сергий молчит, слегка улыбаясь. И Алексий, понявши, что вопросил совсем не о том, спрашивает, гневая на себя, грубо и прямо:
– Примут?
– По велению митрополита русского! – отвечает Сергий и добавляет, помедлив: – Тогда – возмогу.
И, наверно, Сергий опять прав, и он, Алексий, восхотел большего и скорейшего там, где неможно ни то, ни другое. И новопоставленный игумен, ныне сидящий пред ним, по-прежнему крепок и тверд, и не стоило Алексию сомневаться в нем даже и мысленно. Но неужели изменить души немногих иноков, по воле своей сошедших вместе, труднее, чем изменить судьбу государств и участь престолов? «Да, – отвечает ему молча взгляд Сергия, – да, отче, труднее! И не спеши, дай мне самому нести сей крест и вершить должное по разумению моему!»
– Мне, отче Сергие, неможно ныне оставить Москву даже на час малый! – медленно произносит Алексий, глядя в лесные, светлые и глубокие, бездонные, как моховые озера, глаза старца. – Но я пошлю с тобою рукописание свое и от себя бояр и клир церковный, вкупе с епископом Афанасием! Довольно сего?
– Сего довольно! – ответствует Сергий.
– Мыслишь ли ты, – спрашивает вдруг Алексий, кладя руки на подлокотники кресла и наклоняясь вперед, – что минут которы на Москве и снизойдет мир в сердца злобствующие?
– Боюсь, владыко, что не будет сего! – отвечает, подумав, Сергий. – Иное, хотя и скорбное, должно дойти до предела своего и разрешить себя, яко нарыв, который не прежде изгоняется телом, чем созреет и вберет в себя всю скверну и гной!
Два-три года назад Сергий еще не говорил так жестоко и прямо, отмечает про себя Алексий, начиная догадывать, что изменилось в Сергии и почему тот якобы нарочито не спешит на пути своем, не спешит, но и не отступает вспять. Да, ежели возможен новый Феодосий на Москве, то это – только он и никто другой!
– Надобна ли моя помочь обители? – говорит Алексий и ловит себя на давнем воспоминании: когда-то так же прошал он Сергия и о том же самом, и преподобный отвергся в ту пору всякой помочи. И, почти не удивляясь, слышит знакомые слова:
– Обитель ныне изобильна всем надобным для нее, а излишнее всегда опасно для мнихов! Быть может, – прибавляет он едва ли не в утешение митрополиту, – егда создадим общее житие, возможет явиться нужда в чем-либо, но тогда посланные тобою уведают о том в свой час!
Что-то еще надобно спросить, о чем-то сказать, о самонужнейшем ныне, а может, попросту жаль отпускать от себя этого монаха, в коем Алексий начал было сомневаться в пути, а теперь не может отпустить от себя, чуя незримое истечение светоносной силы, которой так не хватает порою ему, Алексию, взвалившему на себя двойное бремя мирской и духовной власти?!