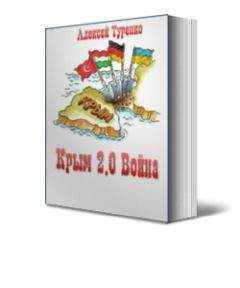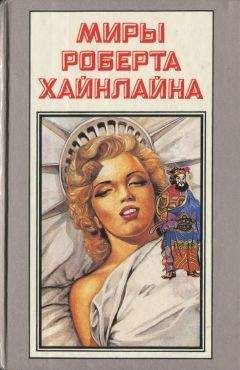Из донесения агентов ему было известно, что рабочие теперь живут одной крепко спаянной семьей, полные доверия и дружбы. Вся сумма до единой копейки была распределена среди семей погибших. Вдова получала по сто рублей на себя и столько же на каждого ребенка. По решению стачкома дети погибших и вдовы отправлялись в первую очередь. Обо всем этом сейчас рассказал Белозерову Гинцбург. Среди служащих шел слушок, что главный управляющий начал сильно пить и уже делами почти не занимался. В наступавшей темноте монотонно стучали стенные часы, беспощадно отсчитывая время. Сквозь гнусавый комариный вой Белозерову сейчас чудился отдаленный, многоголосый гул толпы. Вдруг широкое итальянское окно кабинета осветилось ярким заревом, и комната начала наполняться кровавым светом. У ближних бараков один за другим взвивались столбы огня, крыши и стены засыпались высоко летящими искрами. В хаосе этого бурлящего пламени мельтешил народ.
- Пожар! - крикнул Белозеров и попятился от окна.
- Казармы горят! - проговорил выскочивший из-за стола Гинцбург.
- Феоктистов! Горелов! - орал перепуганный Белозеров. - Где вы, разбойники?
- Да тут я, Иннокентий Николаевич! - отозвался вбежавший чиновник Горелов, одно из самых близких и доверенных лиц главного управляющего.
- Где пожар, что горит? - У Белозерова дрожали скулы. В кабинете стало совсем светло.
- Да нет, Иннокентий Николаевич, никакого пожара, - торопливо ответил Горелов.
- Как нет? А это что? Ослеп! - Белозеров взмахнул руками.
Огненное зарево полыхало теперь уже над всем прииском, ослепительно сверкая на стеклах приземистых казарм и домишек. Пламя поднималось на уровне крыш.
- Это не пожар! Это рабочие свое барахлишко жгут, - презрительно ответил Горелов.
- Баррахлишко?! - с грозной исступленностью крикнул Белозеров.
- Так точно, Иннокентий Николаич, все предают огню. Все, до единой табуреточки.
- Да как они смеют! - закричал Белозеров.
- Недаром говорят, - вмешался Гинцбург, - что мы живем в варварской стране, среди необузданных дикарей.
- Полегче, господин барон, - бросил Белозеров, не догадываясь, что этой фразой он облегчает начало неприятного разговора.
- Да, да! Дикарская страна, и вы такой же дикарь, как и ваши русские соплеменники!
- Вот как! - Белозеров исподлобья посмотрел на главного акционера и с расслабленной грузностью присел на стул.
Оба замолчали, глуша в себе одолевавшую их ярость, далекие от мысли, что они почти ничем не отличаются друг от друга. Оба прожили беспокойную, недобрую жизнь, с единственным стремлением нажить больше денег.
- Значит, я дикарь-с? - Белозеров с присвистом вздохнул.
Гинцбург, не отвечая, по-хозяйски присел в кресло и склонился над бумагами, попыхивая длинной гаванской сигарой. Выжидал.
- Выходит, я уже никто? Иннокентий Белозеров отдан на заклание, так я понимаю, ваше сиятельство?
- Ну, если хотите, речь идет о вашей отставке, - несколько смягчившись, ответил Гинцбург.
- Какой же, ваше сиятельство, будет отставка - с позором или с бубенчиками? - Белозеров прервал свою речь, чтобы перевести дыхание.
- Не ломайте, господин Белозеров, комедии.
- Но я же дикарь!
- Да, нам весьма дорого стоит ваше дикарство. Еще не подсчитано, во что обойдется вся эта история!
- Те-е-э-экс! Может быть, мне выколют глаза за то, что я мало для вас награбил?
Гинцбург молчал. Он ожидал, что вспышка гнева будет более бурной, потому старался не дразнить Белозерова.
- Кешка Белозеров, валяй на покой... Вот до чего ты дослужился! Неужели у вас для меня нет даже доброго слова? - Рот бывшего управляющего перекосился. - А вы ведь, господин банкир, истинный живоглот! Ей-ей!
Гинцбург сухо рассмеялся.
- А вы что же, воображали, что я тот самый банкир, который бегает по театральным подмосткам с полным мешком золота и раздает его пустоголовым зевакам направо и налево?
- Да, да, мне казалось - только один я без предрассудков... Так мне и надо!
Белозеров всхлипнул и быстро вышел в боковую дверь.
Его царству на Витиме пришел конец.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Рождался новый день. Солнце всплывало из-за синей тайги. Кровавая дымка утренней зари волшебно таяла в первых лучах солнца, зажигая своим светом высокие на взгорье кресты и могилы, уже успевшие зарасти молоденькой травкой.
Архип и Маринка возвращались с кладбища. Сегодня предстоял отъезд. Они медленно спускались с кладбищенского пригорка, заваленного громоздкими серыми камнями. Маринка выбрала камень, который поглаже, смахивая пыль, проговорила:
- Посидим, дядя Архип, маленько. - Кутая подбородок в теплый пуховый платок, она устало присела.
Он молча кивнул и тоже опустился неподалеку на угловатую глыбу, неторопливо раскручивал завязку кисета, похожего по цвету на лиловый подснежник.
Маринка поеживается, ей особенно зябко в это последнее утро. Может, оттого, что прохладно, а может, потому, что здесь, на Витиме, рано чувствуется звонкая хмарь уходящего лета. Воздух, прозрачный и чистый, густо наполняется ранними звуками. Громыхая на стрелках, неутомимо пыхтит паровоз, жарко дымя горбатой спиной, а за ним масленно скользят рельсы, отсвечивая слепяще укатанной сталью. Марине навсегда запомнятся великаны кресты, а под ними постоянно горящие свечи. Пламя колеблется. Тишина. Даже цветок не шелохнет пожухлым лепестком. Люди идут на могилы и приносят свечи, аккуратно обвитые золочеными тесемочками.
Архип Гордеевич без слов понимает, какие мысли одолевают его спутницу. У него же свои печали и раздумки. В сутолоке власти о нем вроде пока забыли... Он решил затеряться и сплыть вместе с другими. Правда, на Шихан ему нельзя. Авдей с Ветошкиным снова куда-нибудь закатают. Проводит Маринку и махнет на Миасс или на Благодатную. О здешних-то делах сполох надо бить в живой колокол! Теперь у Архипа везде друзья. Помогут Лукерью с детишками туда перетащить. На пригорок поднимаются все новые и новые люди. Идут за тем же, что и все, - попрощаться.
- Так, Архип Гордеевич, значит, сегодня уезжаем? - Маринка вздохнула. Крупная тень ее в оренбургском платке почти дотянулась до ног Архипа.
- Уезжаем, Маринушка, вроде как! - Он тоже едва сдерживает судорожный вздох. Даже глаза сладко зажмурил. Чудятся ему островерхие курганы, дрожащие в ковыле, за ними степь с бахчами, речка Суюндук на Синем Шихане и Ванька с Федькой ныряют в камыши за утятами...
- Слыхала я, дядя Архип, что про нас везде в газетах пишут. Правда это? - спрашивает Марина.
"Про нас!" Мысль Архипа выхватывает это единственное слово - "про нас". Теперь уже сама судьба приобщила молодую казачку к многотысячной массе рабочих.
- Пишут, Марина Петровна! - быстро ответил Архип. - За нас петербуржцы вступились; сто тысяч человек подали свой голос на всю Россию.
- Сто тысяч! - повторяет Марина, не зная толком, мало это или много. - Нас, конечно, жалеют... - Она снова вздыхает и низко-низко опускает голову.
- Нами гордятся, Мариша! А писать будут долго-долго, - задумчиво продолжает Архип Гордеевич.
Архип дрожащей рукой опять тянет из кармана подснежниковый кисет Лукерьин подарок - и пробует на горсть остаток махорки. Есть еще табачок на дорожку. Утро на подъеме. Каменные кругляши, что помельче, дождями вымытые, ветром обдутые, блестят вокруг, словно черепа лысые. Меж ними тропка вьется. Она жестко утоптана. По ней спускается женщина в черной шали. Рядом два парнишки. Маленький, годов двух-трех, за руку держится, другой, лет шести, самостоятельно прыгает с камня на камень. Скакнет разок, другой и на деда Герасима оглянется. Герасим Голубенков и женщина, ответив на поклон Марины и Архипа, молча садятся поблизости. Посидели немножко, а потом уже повели разговор негромко. Говорила женщина. Она молода, но черное лицо ее вспахано глубокими морщинами.
- Ходил просить насчет провизии. - Голос ее сухой, надорванный. - Мы сами мужьям говорили, что нельзя же голодом сидеть. Четвертого апреля он ушел со всеми, и ничего я не думала.
- Кто же мог думать? - вставляет Герасим. Он глядит себе под ноги.
В сторонке ребятишки присели на корточки - камешки рассматривают.
- Когда услышали мы в казармах, что случилось, все заревели на стану, от старого до малого, - продолжает женщина.
Маринка осторожно поднимает голову. Прислушивается.
- Побежала я по дороге навстречу, кто-то мне говорит из нашей казармы: "Твой муж ранен". - От слез голос женщины становится внятней и тише. - Побежала я на Надеждинский, подбегаю к мосту, а ротмистр мне машет шашкой, кричит: "Не ходи - застрелю!" Вижу, солдаты поднимают раненых и убитых, а нам нельзя подойти... Побежала я оттуда в больницу - нет его, тогда на феодосиевскую - насилу пропустили. Нашла. Лежит... Пошел нарядился как в церковь, жилетку надел...
Прогромыхавший поблизости паровоз заглушает ее голос. Маринка затыкает себе рот концом смятого платка. Архип гулко откашливается. Только Герасим сидит недвижимо, опустив глаза в землю.