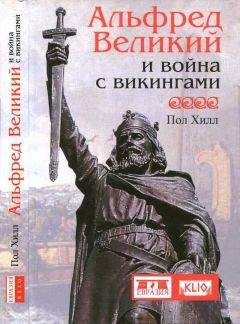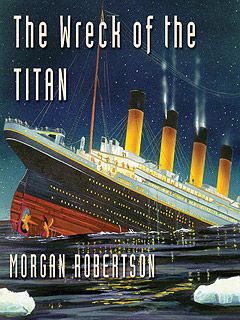В Гренландии нет никуда негодных или просто плохих зверобоев. Все мужчины отличные охотники. Многие из них искуснейшие мастера своего дела "большая рука", как их называют в Туле. Считается, что тем, кому не удалось прийти с большой добычей, просто не повезло. Охотничье счастье им изменило. Их семьи и друзья сетуют по поводу невезения, но никогда не обвиняют охотника в неумелости. Правда, среди полярных эскимосов имелись исключения — двое или трое "толстокожих", которым было безразлично, что над ними потешаются. О них сложилось общее мнение, что они ленивы и поэтому неспособны к охоте. Однако жили они ничуть не хуже, чем их друзья и соседи, хотя кормились чужой добычей. Ведь каждый человек, имеющий собак, член рода. И неужели его родные должны страдать оттого, что он плохой добытчик и не в состоянии обеспечить семью? У жен и детей таких людей всегда хватало еды, хотя, конечно, им никогда не доставались лучшие куски. Если плохой охотник хотел угостить гостей сердцем, языком или печенью, ему всегда приходилось угощать чужой добычей, и это унижало его жену.
Наварана прекрасно знала, что я могущественный человек, но как охотник я не оправдал ее надежд. Она одна среди своих сородичей понимала, что писать на клочке бумаги или читать книги — это тоже вполне мужское занятие. Другие этого понять не могли, они признавали только то, что было обычаем их рода с давних времен.
Не было женщины милее Навараны, но не было и столь же ревнивой к доброму имени и славе своего мужа. Она страдала, потому что мне пришлось смириться с дерзкими словами старой Арнарврик. И теперь, когда мы остались вдвоем и никто из эскимосов не слышал нас, ей хотелось высказать всю свою досаду.
— Ты ведь великий человек, Питa! — сказала она мне. — Тебе не следовало уходить одному на эту скалу: ты показал всему роду, что чувствуешь стыд и негодование из-за слов какой-то жалкой женщины!
Мы долго молча сидели рядом — двое молодых людей, любящих друг друга.
Ни разные языки, ни разные расы не мешают любви, но невозможно до конца понять человека, получившего совершенно другое воспитание. Наварана была твердо убеждена, что я несчастлив, ибо как охотник я не мог сравниться с другими мужчинами рода. Мне совсем не хотелось огорчать ее еще больше, признавшись, что мне совершенно безразличны злобные слова какой-то старой карги и та ядовитая любезность, с которой она их произнесла. Если бы я сказал все это, то совершенно сбил бы Навараиу с толку и разрушил ее представления об устоях жизни. Для нее самое главное заключалось в том, чтобы мужчина, которого она любит, пользовался уважением в роду и заслуживал всеобщее восхищение и почет.
Было невозможно объяснить ей, что я поднялся сюда только затем, чтобы высматривать корабль, и никакой другой цели у меня сейчас нет. Узнав, что мои мысли обращены к моей родине, она бы решила, что я недоволен и жизнью в Туле, и ею самой. И хотя в эту летнюю ночь на вершине скалы мы сидели рядом, подыскивая нужные слова, оба наполненные желанием утешить друг друга, мы на самом деле были бесконечно далеки.
Между нами всегда существовала непроходимая пропасть. Наварана знала себе цену. Несмотря на свою молодость, она была искусна в шитье и непревзойденной мастерицей в выделке шкур и добыче пушнины. Прошлой зимой она сама поймала песцов гораздо больше, чем требовалось на ее одежды. Отчим и дед Навараны были уважаемыми людьми в роду, их мудрые слова считались почти законом. Я хорошо знал, что здесь основная цель — добывание пищи, и борьба за это никогда не прекращается, но все же полагал, что в мире существуют и другие, может быть, более важные цели, чем попадание гарпуном в нарвала, — цели, к которым и следует стремиться. А вот этого Наварана не смогла бы понять, что бы я ни говорил, что бы я ни делал.
Когда я рассказывал о Дании, где ей очень хотелось побывать, она всегда говорила, что счастлива за меня — ведь мне удалось ускользнуть из этой плоской и мертвой страны, в которой нет ни тюленей, ни моржей и где пищу нельзя добывать, а можно только пойти и купить в магазине. Страна, в которой женщина трудится и зимой и летом в одном и том же доме! Никаких перемен, никаких опасных и трудных путешествий, никаких переселений из зимнего каменного дома в веселый летний чум. Негде проявить свою ловкость, выносливость и мужество! Что может знать муж о своей жене, если у него никогда не было случая посмотреть, как она переносит снежный буран в открытом поле? Или как она шьет ему одежду и таскает его детей на спине?
Наварана при всем желании не представляла, как женщина может жить в Дании. Она могла понять, что пища произрастает на земле, что король думает за всех и поэтому пользуется наибольшим почетом. Но что будет, хотела бы она знать, если сам король не сможет обеспечить пищей все великое множество людей? Что он станет делать — сидеть и думать за всех? Но откуда ему взять опыт и умение, если он никогда не попадал в трудные и опасные положения?
Мы многого не понимали друг в друге, потому что была разница в представлении о жизни, разница в восприятии явлений — разница, которая никогда не сотрется. Но мы забыли об этом в ту ночь на скале, как забывали и в другие времена. Полуночное солнце сияло над нами, и все как будто улыбалось двум людям, сидевшим в ожидании корабля.
— Питa, ты добр к женщине в горести, ты опечален из-за нее, — сказала Наварана робко и смущенно. — Твоя мудрость велика, ты принес новые мысли в голову бедной женщины!
Мы опять помолчали. Я сидел и играл с биноклем, не сводя глаз с жены. Она пристально во что-то всматривалась, как бы пытаясь заглянуть далеко-далеко за ледяные просторы. Она смотрела за остров Саундерса, в направлении лежавших за линией горизонта островов Кэри.
Наварана еще словом не обмолвилась о том, что она обнаружила. Однако вскоре, как бы желая дать отдых глазам, она легла на мох и с удовлетворением вздохнула.
— Как хороша наша страна летом! — пробормотала она счастливо. Долго-долго стоят такие дни — тихие и теплые, а солнце светит все время. Одна беда, что в такую погоду люди становятся ленивыми и забывают, зачем им даны глаза, — добавила она и опустила веки, как бы желая представить себе то, что она увидела.
Я почувствовал себя немного задетым и опять поднес бинокль к глазам. Я просмотрел весь горизонт, особенно остров Саундерса и пустынный паковый лед за ним. Но я ничего не обнаружил и снова протянул бинокль Наваране.
— Люди рождаются с глазами, чтобы видеть ими, — повторила она.
Я слегка отупел от бесконечного наблюдения изо дня в день. И, кроме того, я прекрасно знал, что в тот момент, когда корабль покажется, его нельзя не заметить и глупо напрягать зрение, чтобы увидеть то, чего здесь и не может быть. У Навараны глаза, казалось, совсем не уставали, она никогда не смотрела в бинокль. Она родилась с великолепно развитыми органами чувств и умела ими пользоваться. Я не сомневался, что сейчас она что-то увидела, но не хочет приписывать себе честь открытия. Ее муж уже испытал унижение, теперь ему представился случай возвыситься в глазах жителей стойбища и заслужить их восхищение. И она ничего не хотела сказать мне, чтобы не получилось, будто она увидела что-то раньше меня.
Я мог только поражаться ее самообладанию. Взяв бинокль, я стал смотреть; больше всего она желала, чтобы я непременно сам увидел.
— Там ничего нет, Наварана, — сказал я, наконец, со вздохом. Удивительно, что ты там могла разглядеть?
— Чуть-чуть левее грязной ледяной горы, — прошептала она, — и чуть дальше!
Теперь она была крайне возбуждена. Я снова посмотрел в бинокль. Я предполагал, что там, на льду, может быть стадо моржей или большая стая птиц, но я решительно ничего не мог обнаружить. Я наводил бинокль, прочищал стекла — все напрасно.
Это было слишком для Навараны, больше она уже не могла сдерживаться:
— Люди! Инуит! — закричала она. — Люди с севера идут сюда в гости! Они приближаются. Большие люди! Вероятно, не будет лишним созвать всех и сказать, что можно ждать гостей. Ведь сейчас почти все лежат и спят после сытного обеда!
Уважение ко мне можно вернуть, сообразила моя дорогая Наварана, если окажется, что я один бодрствовал, когда все спали, и заметил людей, идущих с севера к нашему стойбищу. Ведь ясно, что никому и в голову не придет, будто у жалкой женщины глаза лучше, чем у мужчины, и именно она сделала это большое открытие.
Но я сам так ничего и не разглядел. Наваране пришлось объяснить мне более подробно:
— Смотри, там, перед Агпатом, ледяная гора чуть запачканная землей. Налево от нее, на льдине, белый снег, который сверкает на солнце. Совсем рядом два маленьких ропака[14], которые торчат, как два пальца. Ты видишь их? А перед ними, чуть правее… что-то движется. И краски там другие. Это не грязный снег, это чернее. Гораздо чернее. И все время движется. Это люди… Чужие люди, которые направляются к нам в гости. Скоро они обогнут Умивик!