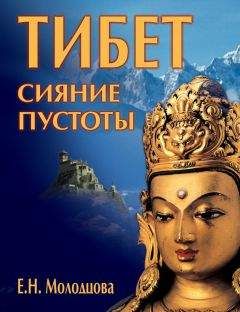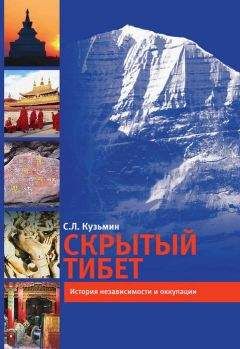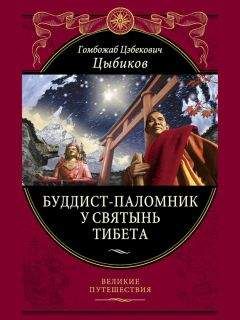Илл. 74. Октябрина Федоровна Волкова
Эдик был четко выраженным человеком не от мира сего. Мы часто встречались с ним в Библиотеке им. Ленина, которую в аспирантские годы посещали неукоснительно. Если мне нужна была какая-то справка или название книги, не стоило идти в каталог – нужно было спросить у Эдика, он помнил и знал все. Я обычно сидела в «Ленинке» с девяти до пяти и очень радостно убегала навстречу другой жизни. Эдик же часто недоуменно спрашивал меня: а что же я делаю после пяти часов? Для него жизнь была постоянной умственной работой, для меня же она часто начиналась как раз за пределами библиотеки. Вот это и есть разница между старыми и молодыми душами. С Эдиком можно было встретиться на середине проезжей части, и, совершенно забыв о месте и времени, он начинал рассказывать о своей очередной работе, в которой всегда было для меня много непонятного, но завораживающего.
Помню, однажды мы с ним пришли на семинар Г.П. Щедровицкого, к которому считали своим долгом ходить всякий раз, когда того запрещали, выгоняли, не пускали и т. д. Причиной тому была и идеология, и острый язык Георгия Петровича, который никогда не мог обидеть уборщицу или другого незащищенного человека, а вот словесно ударить под дых высокое начальство – это он умел блестяще. Семинар, помнится, отменили, так как сломался магнитофон, а без записи говорить было бы обидно. Эдик тут же предложил мне поехать к Октябрине, а на полу в середине комнаты сидела наголо обритая девочка с красивыми ножками, которая тут же спросила: «А можно я с вами?». Эдик кивнул. Я была уверена, что он ее хорошо знает, но в трамвае он беседовал только со мной, и скоро я поняла, что мы везем с собой совершенно незнакомого человека. Октябрина и ее сестра перенесли это стоически, лишь потом устроив нам с Эдиком славную заслуженную выволочку.
В это время на философском факультете вновь начал читать курс Александр Моисеевич Пятигорский. Произошло это лишь потому, что тогда деканом на короткое время стал мой покойный научный руководитель Алексей Сергеевич Богомолов, никогда не упускавший случая сделать что-нибудь хорошее. Алексей Сергеевич не был индологом, но он был настоящим философом, тонко чувствовавшим проблематику, а также истинным Учителем, насквозь видевшим ученика, к которому относился и требовательно, и снисходительно, как к младшему. И еще он был человеком потрясающей надежности, он всегда в нужный момент прикрывал ученика от пустых и злобных идеологических нападок его коллег. Без него я вряд ли написала бы диссертацию и уж точно никогда бы не защитила ее. Он непомерно рано ушел из жизни, и эта утрата невосполнима до сих пор. Только в день его похорон я заметила, что его автограф на подаренной мне в день защиты маленькой оксфордской книжке с текстами Упанишад и Бхагавадгиты стоит сразу после эпиграфа: «О человек, я буду идти с тобой и буду твоим проводником, и в твоей наибольшей нужде я пойду с твоей стороны». Алексей Сергеевич как-то сумел убедить окружающих в том, что дурная репутация Пятигорского в идеологическом смысле никак не мешает ему быть блестящим преподавателем. Начались лекции, однако теперь уже восточная философия взошла на самый гребень моды. В новом корпусе гуманитарных факультетов самая большая аудитория была заполнена до предела, люди сидели на ступеньках, стояли в проходах. Александра Моисеевича отнюдь не радовала такая популярность, он горько недоумевал, что же они все здесь делают и что этой разношерстной массе можно всерьез рассказывать? Разбирать тексты, конечно же, было бессмысленно, древние Учителя никогда не предполагали, что можно передавать знания такой разнородной массе слушателей. Пятигорский продолжал триумфально опаздывать минут на двадцать, его встречали благодарным ревом, но читал он уже упрощенные применительно к слушателям лекции.
Слушатели записывали лекции сразу на множество магнитофонов, потом их перепечатывали и распространяли. Однажды ко мне попал текст такой распечатки, и я ужаснулась тому, как же велико было непонимание, которое, правда, было прямо пропорционально растущему обожанию. Видит Бог, Александр Моисеевич не прилагал ни малейших усилий, чтобы покорить аудиторию, более того, он просто сбегал от своих почитателей, и тогда они начинали бегать за мной. Помню, за мной долго ходил один юноша и настоятельно просил уговорить Пятигорского, чтобы тот взял его в ученики. Я поинтересовалась, готов ли он носить Учителю дрова, добывать и готовить для него пищу, содержать его жилище в чистоте и так далее. Парень был готов на все. Александр Моисеевич долго смеялся, когда я ему это сообщила, сказав, правда, что вот жили же люди!
Обаяние Пятигорского было как бы абсолютно от него не зависящим, неожиданным для него самого. Так, однажды мы с ним пришли в курилку «Ленинки», и он стал разбирать мою работу, увлекся, конечно, собственными соображениями. Когда мы оглянулись, оказалось, что нас окружала целая толпа, завороженно слушавшая его речь. Пришлось покинуть курилку. Как-то раз я привезла в дом к Волковым своих приятелей-кинетистов, талантливых молодых художников, работавших с движущимися объектами, живших общиной. Потом Александр Моисеевич поехал со мной куда-то за город посмотреть их работы. Кончилось все тем, что он стал им рассказывать о кинетическом искусстве, о философии Ницше и вообще обо всем на свете. Талантливые молодые снобы, имевшие обыкновение глядеть на всех сверху вниз, были совершенно покорены, а потом целый год приставали ко мне с вопросом, когда же Пятигорский приедет к ним в следующий раз. Их глава, Лев Нусберг, начал, как мне показалось, даже ревновать. Но Александр Моисеевич за один раз полностью удовлетворил свой интерес. Сила его воздействия на окружающих действительно была необычайной – знаю по себе; когда я шла с ним по улице, я уже не замечала ничего и никого.
Ну а дурная репутация была у него потому, что он шел своим путем, был ярок, выделялся и тем самым сильно раздражал окружающих. Не умел ладить с начальством и не старался этому научиться. Кроме того, имел обыкновение вмешиваться в то, что его совершенно не касалось. Однажды он позвонил мне домой и попросил узнать, что происходит с Таней Панченко. Я выяснила, что Татьяну, отличницу, студентку пятого курса философского факультета, выгоняют из Университета за какую-то полную чушь – то ли письмо какое-то подписала, то ли выступила где-то. У нас на факультете такое случалось сплошь и рядом, ведь факультет был школой идеологических кадров. Татьяна сказала, что, по всей видимости, единственное, что могло бы ей помочь, это поручительство какого-нибудь коммуниста. Пятигорский – беспартийный, как и все мы, – тут же выразил готовность попросить об этом Мераба Константиновича Мамардашвили, своего друга и соавтора. Я усомнилась, согласится ли тот, ведь это отразится на его репутации. Александр Моисеевич спокойно ответил, что они друзья, а потому каждый готов выполнить любую просьбу другого. И действительно, Мераб Константинович, идеологическая репутация которого отнюдь не была безупречной, зато научная вполне основательной, пошел в партком и ходатайствовал о Тане, обещая самолично перевоспитать ее. Надо заметить, что оба джентльмена практически не знали эту девушку. Татьяне это, к сожалению, ничем не помогло, а Пятигорский и Мамардашвили получили по дополнительной черной метке. Однако благородство поступков было безупречным.
В доме Волковых постоянно как бы витала тень бурятского Дхармараджи, странного и загадочного человека Бидии Дандаровича Дандарона. Иногда он останавливался у них, в другое время о нем часто упоминали. Однажды Дандарон вышел к ним на кухню и сообщил: голос Учителя сказал ему, что придется опять сидеть. У Октябрины Федоровны и у Пятигорского к тому, что мы называем мистикой, отношение было странное. Они верили в нее и одновременно над ней же иронизировали. Услышанное Дандароном они отнесли на счет его расстроенных нервов. Однако всякий раз, собираясь выпить что-то жидкое, вначале совершали обряд кропления духам. И Октябрина Федоровна почему-то очень часто говорила мне, чтобы я никогда не вздумала выходить в тантры, что это очень опасно. Я в то время занималась исключительно индийской классикой и о тантрах даже не думала. А вот надо же, вышла. А потом спрашивала у других ее учеников, говорила ли она им то же самое, – оказалось, что нет, но они и не выходили в тантры.
Прекрасное это было время, и казалось, что так и будет всегда. Ощущение прочности бытия вообще свойственно молодости.
Но однажды все начало рассыпаться. Вначале умерла голубая колли Зедя; ей, умирающей, Октябрина Федоровна читала Бхагавадгиту, говоря, что в следующей жизни Зедя родится человеком и возьмет себе собаку, которой будет она, Октябрина Федоровна.
Потом начались неприятности у Эдика. Он был аспирантом Института социологии в секторе Левады. А Институт уже подлежал разгону, ибо его исследования приносили результаты, никак не соответствующие официальным установкам. Начать было решено как раз с сектора Левады. И как раз на семинар, где с докладом выступал Эдик, пришел проверяющий, должным образом озадаченный. Когда Зильберман закончил, инспектирующий поинтересовался у него: что нужно делать, чтобы сохранить революционные традиции? Всегда искренний и не знающий ни о каких подтекстах Эдик честно ответил, что для этого нужно как можно чаще создавать революционные ситуации. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения.