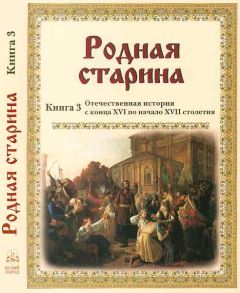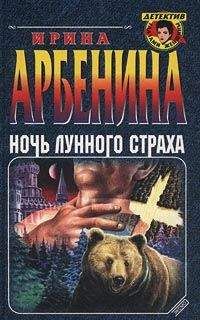Сбылось полностью предсказание прозорливого инока Александро-Невской лавры Авеля, прозванного Вещим, сделанное им лично императору Павлу Петровичу: «Коротко будет царствование твое, и вижу я, грешный, лютый конец твой. На Сафрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей. В страстную субботу погребут тебя… Они же, злодеи сии, стремясь оправдать свой великий грех цареубийства, возгласят тебя безумным, будут поносить добрую память твою. Но народ русский правдивой душой своей поймет и оценит тебя и к гробнице твоей понесет скорби свои, прося заступничества и умягчения сердец судей неправедных и жестоких».
Прошло время. «Народ стал приходить в себя. Он вспомнил быструю и скорую справедливость, которую ему оказывал император Павел: он начал страшиться высокомерия вельмож, которое должно было снова пробудиться».
«Когда русское общество говорит, что смерть Павла была расплатой за его притеснения, оно забывает, что он теснил тех, кто раскинулся слишком широко, тех сильных и многоправных, кто должен был быть стеснен и обуздан ради бесправных и слабых, — писал В. Ходасевич. — Может быть — и это была историческая ошибка его. Но какая в ней моральная высота!
Он любил справедливость — мы к нему несправедливы. Он был рыцарем — и убит из-за угла. Ругаем из-за угла…
Я о Павле читал порядочно, и он меня привлекает очень, о нем психологически наврано, хочется слегка оправдать его… Хочу доказать, что на основании того же материала, которым пользовались разные профессора, можно и должно прийти к выводам, совершенно противоположным их выводам…»
Закончим словами И. И. Дмитриева: «Пусть судит его потомство, от меня же признательность и сердечный вздох над его прахом».
Возмездие
(Вместо заключения)
Мне противно называть имена кровопийц, которые отличились во время катастрофы своим варварством. Хочу только сказать, что я знал многих из них и знаю наверное, что их смертный час был особенно ужасен страшными душевными и физическими страданиями.
Н. Саблуков
Осенью 1801 года в Петербург приехал Лагарп. Он советует своему воспитаннику, пусть с опозданием, взять ответственность за 11 марта на себя и сурово наказать цареубийц за превышение данных им полномочий. Но Александр I не решился на это. Зато Мария Федоровна «неустанно преследовала заговорщиков и выражала явное неудовольствие теми, кто не разделял ее собственное негодование на преступление». Она и слышать не хотела, чтобы ее охрана состояла из тех полков, офицеры и солдаты которых принимали хоть какое-нибудь участие в заговоре. Для своего сопровождения в Павловск Мария Федоровна приглашает эскадрон конногвардейцев, которым командует полковник Саблуков (тех самых «якобинцев», удаление которых с подсказки Палена сыграло решающую роль в ту роковую ночь).
По велению императора Александра I эскадрон Саблукова за свою верность императору Павлу I получил особое отличие, позже распространенное на всю конную гвардию — Андреевскую звезду с надписью «За веру и верность» на вольтрапы.
«Через несколько дней, — пишет Бернгарди, — императрица отправилась с двумя старшими сыновьями, Александром и Константином, в часовню святого Михаила и там заставила их поклясться, что они ничего не знали о намерении лишить жизни императора Павла».
Своих приятелей Кнорринга и Бенкендорфа, вернувшихся в Петербург, Мария Федоровна встретила словами: «Ах, если бы вы оба были здесь, этого несчастья не случилось бы».
Уединившись в Павловске, она отдается заботам, посвященным памяти погибшего мужа: ставит ему великолепный памятник и как дорогую реликвию хранит его постель и подушку, запятнанные кровью. Все, что связано с его именем, окружено здесь любовью и уважением.
Н. А. Саблуков: «Императрица-мать не искала в забвении облегчения своего горя: напротив, она как бы находила утешение, выпивая до дна горькую чашу душевных мук. Самая кровать, на которой Павел испустил последнее дыхание, с одеялами и подушками, окрашенными его кровью, была привезена в Павловск и помещена за ширмами, рядом с опочивальней государыни, и в течение всей своей жизни вдовствующая императрица не переставала посещать эту комнату».
«Императрица Мария с отвращением относилась ко всем тем, кто принимал участие в убийстве ее супруга, — пишет Ланжерон. — Она преследовала этих людей неустанно, и ей удалось удалить всех, устранить их влияние или положить предел их карьере… Гвардейские офицеры, принимавшие участие в заговоре, один за другим попали в немилость и были удалены так, что по истечении года никого из заговорщиков не осталось в столице, если не считать Валериана и Николая Зубовых».
Первым пал тот, чье дьявольское хладнокровие, энергия и расчетливость сыграли главную роль в успехе заговорщиков.
Он чувствует себя римским триумфатором, спасшим отечество от чудовища, и «громко восклицает об услуге, оказанной им государству и человечеству». «Мы были, может быть, на краю действительного и несравненно большего несчастья, а великие страдания требуют сильных средств, — говорит Пален своим почитателям. — Я горжусь этим действием как своей величайшей заслугой перед государством».
Саксонский посол Розенцвейг был совсем другого мнения. «Пален не думал бы о смене монарха, — писал он, — если бы не был убежден, что благодаря непостоянству императора ему самому рано или поздно предстояло падение и что чем выше его положение, тем ниже ему придется пасть…»
Играя роль патриота, Пален всячески отгораживается от «гнусных убийц». В беседе с Ланжероном он говорит: «Наступил ожидаемый момент. Вы знаете, что произошло. Император погиб и должен был погибнуть; я не был ни свидетелем, ни действующим лицом в его смерти. Я предвидел его кончину, но не хотел принимать участия в этом деле, так как дал слово великому князю».
«Странный ход мыслей, — замечает Ланжерон, — он не был действующим лицом при убийстве Павла, но поручил совершить это дело Зубовым и Беннигсену. Пален знал, что он хочет».
«…Падение Палена летом 1801 года было делом рук императрицы, — продолжает Ланжерон. — Она знала достаточно о происходившем во время убийства Павла для того, чтобы страдать при мысли о том, что граф занимает выдающееся положение в непосредственной близости к Александру…»
Поводом для отставки Палена послужил, казалось бы, ничтожный случай. «Сектанты, благодарные покойному императору за его участие и разрешение совершать службы в церквях, — пишет Саблуков, — подарили императрице икону, на которой была надпись, взятая из книги Царств: «Хорошо ли было Симирию, задушившему своего господина». Мария Федоровна велела повесить икону в церкви воспитательного дома. Пошли разговоры, которые дошли и до Палена. Он потребовал от священника, чтобы тот икону убрал, но, ссылаясь на распоряжение императрицы, тот сделать это отказался».
Тогда возмущенный Пален решил переговорить с Александром. Дождавшись удобного момента, он рассказал обо всем государю, но тот неожиданно вспылил: «Не забывайте, что вы говорите о моей матери, — с раздражением ответил он, — впрочем, не может быть, чтобы надпись была такой, как вы говорите; я хочу видеть икону», — продолжал он, смягчившись. Не в пример отцу он не был столь доверчив… Императрица показала икону и объяснилась с сыном. На все его доводы и возражения она отвечала одно: «Пока Пален будет в Петербурге, я туда не вернусь!»
В. Ю. Виельгорский: «Пален вообразил, будто находится в такой милости, что можно бороться с императрицей, но ему следовало бы быть осторожней… Императрица — женщина, она обладает большим упорством, сын ее любит и уважает ее, игра неравная…»
«Когда однажды граф Пален, как обычно, явился на парад в нарядном экипаже, запряженном шестеркой, вылез из экипажа, то принужден был выслушать от адъютанта государя приказ немедленно оставить столицу и отправиться в свои курляндские имения. Пален повиновался, не проронив ни слова. Издан был рескрипт об увольнении со службы генерала от кавалерии Палена, — пишет Саблуков. — В этой истории известную роль сыграл Панин, который впоследствии писал: «Будучи министром при императоре Александре, я принял сторону вдовствующей императрицы. Когда граф Пален по поводу иконы хотел очернить ее в глазах государя, я, и я один, устранил возникшие между ними недоразумения». Вскоре, однако, и судьба Панина решилась в том же роде, как и судьба Палена, — замечает Саблуков. — …Удивительна судьба Панина, образ мысли и действия которого были всего более безобидны; он подвергся более тяжелому преследованию, чем кто-либо из других участников происшествия».
Уже 12 марта в Петровско-Разумовское под Москвой, где жил тогда Панин, отправляется императорский курьер. Спустя девять дней Никита Петрович с необыкновенной сердечностью был принят государем. Обняв старинного друга императорской фамилии, Александр со слезами на глазах произнес: «Увы, события повернулись не так, как мы предполагали…» Они горячо верят, что, будь Панин в столице, несчастья бы не случилось…