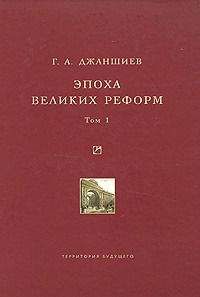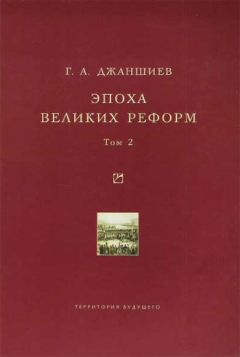Почему поступательное движение в местном управлении являлось неизбежным последствием великой реформы, в чем именно заключалась основная тенденция этого движения и осуществило ли ее Положение о земских учреждениях 1864 г.? В названной официальной записке, составленной в 1889 г., т. е. в реакционное время, крайне неблагоприятное для оценки идей и стремлений 60-х гг., конечно, нельзя найти прямого и верного ответа на эти вопросы, точная постановка и разрешение коих выходили бы даже за пределы практической ее задачи, чуждой исторических, идейных обобщений, но некоторый намек или ответ на эти вопросы находим и в сухом официальном изложении хода дел. Указав на то, что целью земской реформы было стремление предоставить хозяйственному управлению большее единство, самостоятельность и доверие, а после освобождения крестьян и необходимость нового распределения земских повинностей, обещанного 167 ст. Общ. Пол. о крестьянах, историческая записка помимо этих, так сказать, материальных, технических или практических поводов (не одними же заботами о мостах и гатях были вызваны, в самом деле, та необычайная настойчивость и лихорадочное нетерпение, с которыми печать и многие дворянские собрания в 1862-64 гг. ждали и требовали скорейшего открытия земских учреждений!) к местной реформе, указывает и на соображения нравственно-политического порядка. «Независимо от сего необходимо было, – сказано в Записке, – положить предел возбужденным по поводу образования земских учреждений несбыточным ожиданиям и свободным стремлениям разных сословий». Таким образом земская реформа должна была удовлетворить двум требованиям: стремлению улучшить местное хозяйственное управление и дать исход «свободным стремлениям» общества, т. е. единодушному, громкому запросу на самоуправление, заявленному общественным мнением.
И эти «свободные стремления» не были делом случайного, минутного увлечения, а логическим выводом тяжкого исторического урока, накликанного торжеством всемогущей бюрократической опеки и полным подавлением общественной мысли, слова и деятельности.
«Я сделал, что мог; жалею, что не мог сделать лучше», – говорил на смертном одре император Николай I, с горечью констатируя пред своим наследником «непорядок в команде»[587]. Эти простые, дышащие глубокою искренностью и чуждые всякой официальной условности, слова, сказанные вдобавок в такую исключительную по торжественности минуту, когда дыхание смерти носилось уже над головою сильнейшего из сильных мира сего, были настоящим погребальным звоном для старой всесильной, всеподавляющей, непогрешимой бюрократической системы, основанной на крепостном праве и неизбежном спутнике его – канцелярской рутине и чиновничьем произволе и опеке. Если даже такой сильный волею, известный своею энергиею, твердостью формальных принципов, редким трудолюбием и вниканием в дела управления монарх не мог избежать крупных промахов, то это с очевидностью доказывало непригодность существовавшей бюрократической системы управления, или точнее «команды», как выражался сам Николай I. Да, именно «команда», – этот военный термин идет как нельзя лучше, потому что вся дореформенная система, по верному определению хорошо знавшего ее известного государственного человека Н. А. Милютина, была не что иное, как военно-вотчинное управление в духе времен 30-летней войны[588], имея идеалом аракчеевские военные поселения. Когда один из даровитейших изобличителей язв дореформенного старого строя[589], М. Н. Катков, говорил, что дореформенная администрация была: все во всем, другими словами, что она чуть не присваивала себе атрибуты, подобающие одному лишь всемогущему и вездесущему божеству[590], то тут не было гиперболы или натяжки. Достаточно вспомнить, что тогдашняя цензура дерзала наложить свою тяжелую руку даже на самое Священное Писание[591], что бюрократия не в шутку, а вполне серьезно подготовляла «проект религии» для инородцев, составленный эклектически на основании Евангелия и Корана[592]… В своем стремлении искоренять везде самомалейшие проявления «буйной» самостоятельности, бюрократия, вероятно, не преминула бы исправить «ошибку Провидения», наделившего человека свободою воли[593], если бы имела она на то достаточно досуга, сил и средств.
Стянув все к одному центру[594], захватив и подчинив своему давящему произволу все отрасли государственной, общественной и духовной жизни, бюрократия подчинила все и вся своей мертвящей опеке, подавив всякое проявление самостоятельных общественных или индивидуальных сил. Вот каково было положение этих сил в дореформенной России, по характеристике М. Н. Каткова: «Наука? Науки не было, – писал этот будущий апологет самого беспощадного разгула чиновничьего полновластья, – была бюрократия. Право собственности? Его не было – была бюрократия. Закон и суд? Суда не было – была бюрократия. Администрация? Администрации не было – было постоянно организованное повышение власти, с тем вместе ее бездействие в ущерб интересам казенным и частным»[595].
Другой публицист, честный, благородный, но недальновидный И. С. Аксаков[596], бросая в 1884 г. ретроспективный взгляд на дореформенный режим, характеризовал его так: «Нам указывают, – писал он, – что образцом „крепкого и сильного правительства“ (кавычки везде подлинника) служит правительство николаевских времен и что следовало бы, значит, вернуться к его системе, стремившейся упразднить жизнь и дух великой страны, не в ней ли заключается корень последующих зол? Всем нам, людям пожилым, памятно знаменитое «тридцатилетие». Фасад его был действительно блестящий до такой степени, что он и теперь в поколениях позднейших вызывает иногда ретроспективное удивление. Но недаром же и сказано было про Россию, что она – страна фасадов и парадов. В самом деле, Россия стояла, по-видимому, наверху славы и могущества; казалось, «перед ее державным блеском народы молча клонили взор», мы несли на себе обер-полицеймейстерство чуть не в целой Европе, великодушно оплачивая дорогостоящую должность русскими деньгами, силами, интересами и даже кровью; когда вопреки нашей полиции Австрия очутилась на краю пропасти, мы сочли долгом спасти ее, так-таки возвестив миру с гордостью, несколько простосердечною, что «разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог».
«В самой же России, – продолжает Аксаков, – по части политики внутренней, фасад был не менее пышен: снаружи – припомним – все чинно, прочно и стройно; порядок – на диво; дисциплина – на славу; законов – пятнадцатитомная благодать; правительство не только крепкое и мощное, но, казалось, проникнутое единством системы и духа во всех своих органах от петербургского центра до последнего Держиморды в захолустном городишке; правительство грозное, вседержащее, тысячеокое, тысячерукое, вездесущее (курс, подл.), о котором уж никак не приходилось сказать, что оно в отлучке – тем менее было нужды возвещать подданным вперед об его появлении, призывая громким криком „вставайте*… (намек на Каткова) правительство-де идет, правительство возвращается[597]! Чего уж тут было вставать! Россия и без того стояла на вытяжке „во фрунт“, двигаясь словно по струнке и на неумолчные грозовые окрики команды неумолчно же, испуганно рапортовала: „все обстоит благополучно“… Впрочем, сама эта Россия – вся, с Русскою землею и народом – представлялась в понятиях правительства какою-то обширною „командою“, да так и называлась – командою, довести которую до полной „исправности“ или до солдатской выправки духовной и внешней и составляло его заветнейшую мечту. Да и мало ли о чем тогда мечталось! Мечталось и о единообразии архитектуры по всей империи, и об единообразии покроя платья и причесок с укрощением своеволия (курс, подл.) мод, даже и о цензуре Священного Писания!.. Нельзя уж было пожаловаться на противоречия, нельзя было обвинять в распущенности управление учебными заведениями: воспитание учреждалось, по-видимому, железною энергиею; философия – по боку; верховная власть объявлена была (даже официально) „верховною совестью“ (sic), т. е. началом, имеющим упразднить личную, подвижную человеческую совесть[598]… В пределах таковых понятий насаждалось с крутым усердием и самое православие. Но под стройною наружною мощью таилась слабость, гнездилась гниль. Что, чем была в это время Россия:
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна!..
В это самое время Россия задыхалась от духоты, от недостатка простора для мысли и души в своем пространном царстве. Публично слышалось лишь молчание, но неслышно шептались в университетах и обществе смелые и подчас извращенные думы. Спугнули ум, но не задавили мысль, и она пошла, пошла себе бродить подпольными, тайными путями, озлобляясь и искривляясь, восполняя свою скудость и незрелость лживою обольстительностью запретного плода»[599].