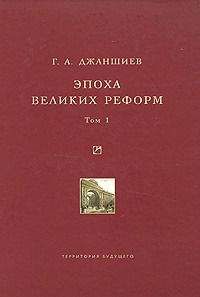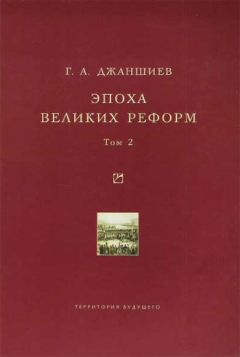Преемнике. С. Ланского Валуев принадлежал к новой полированной, мягко стелющей бюрократической генерации, не столь невежественной, как старая (пример – предшественник Ланского, гр. Перовский), но не менее близорукой, нетерпимой, самодовольной и самонадеянной, чем старая[612].
Блестящий диалектик, владеющий и пером, изворотливый энциклопедист салонов, неистощимый бонмотист, с безукоризненными манерами, прекрасно владеющий «фразой», не лишенною порою пикантного сарказма, мастер в самом обворожительно-легком тоне вести светскую causerie – de omni re scibile et quibusdam aliis, умеющий
Потолковать об Ювенале
В конце письма поставить vale…
таков был новый даровитый министр, будущий автор Лорина, получивший в аристократических салонах Петербурга репутацию не только тонкого государственного человека, призванного сочетать свободу и порядок, но и необычайно хитрого, гибкого политика, ловкого дельца, – словом, мага и чародея[613], способного объять необъятное, примирить все интересы, всех обворожить и сделать довольными.
Мода на цельных людей с твердыми убеждениями, с рациональными программами прошла[614], и явился запрос на ловких «практиков», на эмпириков, призванных к компромиссам, к смягчению односторонности, к умиротворению по рецепту: «с одной стороны нельзя не признаться… но с другой…» и пр. Двусмысленная роль П. А. Валуева при составлении Положения о крестьянах[615] делала его как раз подходящим к новому настроению и направлению дел. Валуев, по словам Милютина, формулировал свою программу следующим образом: точное и буквальное исполнение Положения о крестьянах, но в духе примирительном[616]. Валуев сдержал свое обещание. Он действовал «мягко и уклончиво»[617]; при нем, несмотря на усилия реакции[618], Положение о крестьянах не было отменено, но искусно обойдено. Буква Положений о крестьянах не была нарушена, но зато Валуев открыл новую эру постепенного искажения духа и смысла законов[619], обратившуюся в систему[620]; эта система постепенной отмены закона в административном порядке путем министерских циркуляров должна была вконец расшатать и без того столь непрочный у нас правовой порядок и идею законности.
Появление П. А. Валуева в роли руководителя внутренней политики должно было иметь непосредственное и крайне вредное влияние помимо крестьянского дела и на земскую реформу. Усматривая между ними неразрывную связь[621], Н. А. Милютин вслед за изданием Положения приступил к работам по преобразованию местных учреждений на началах самоуправления. Уже через три дня после подписания манифеста 16 февраля в письме своем от 22 февраля 1861 г.[622] —в ответ на запрос великого князя Константина Николаевича – писал А. В. Головнину Милютин о проектированных, состоявшею под его председательством особою комиссиею, земских учреждениях. Со вступлением в должность П. А. Валуев сам принял председательство в этой комиссии. Несмотря на то, что в составе комиссии[623] были многие весьма замечательные люди, показавшие недюжинные способности при проведении других реформ[624], на работах Валуевской комиссии лежит отпечаток робости и нерешительности, что следует, разумеется, приписать главным образом преобладающему влиянию председателя, а не одному только тревожному настроению, которое замечалось в первое время после освобождения крестьян, в период бурных заседаний дворянских собраний 1862–1863 гг[625]. Что возбужденное состояние общества не было в данном случае неодолимым препятствием, тому доказательство судебная реформа, подготовлявшаяся одновременно с земскою и в отличие от последней получившая тот рациональный и либеральный характер, который вызывает справедливое удивление иностранных публицистов, именно со стороны ее принципиальной выдержанности, способствовавшей и ее успеху[626]. Именно такой выдержанности у проекта Валуевской комиссии, который представлялся паллиативною попыткою сочетания противоположных начал самоуправления и бюрократического всевластия, сословности и бессословности.
Нужен был широкий взгляд просвещенного государственного человека, чтобы облегчить трудные условия «политического воспитания», созданные для народа освободительным манифестом, и уразуметь истинный смысл событий, сопровождавших объявление «воли», в общем совершившегося с изумительною быстротою и успехом[627]. Если там и сям для обучения нового «школьника» приходилось прибегать к содействию военной силы, то ясно было, что мотивами к «бунту на коленях» было не упорство самоуверенного своеволия и неуважения к власти, а завещанное добрым старым временем круглое невежество и безграмотность народа, не могшего уяснить себе сущность дарованной «воли»[628] и питавшего понятное недоверие к своим господам и к местным светским и духовным властям и потому склонного, по язвительному замечанию Ю. Ф. Самарина, «в призыве войска видеть единственную гарантию подлинности Высочайшей воли»[629].
В большинстве же случаев происходило спокойное, но решительное гражданское перерождение народа, впервые получившего сознание о своих правах, о своей «правоспособности»[630]. Уравнение перед законом, уничтожение сословных перегородок – таковы были требования минуты, ясно сознаваемые деятелями крестьянской реформы, но не такова была программа реакционной партии, дававшей тон политике и стоявшей за сохранение и усиление дворянских привилегий. Эта программа была отчасти усвоена и П. А. Валуевым.
Такою именно неискренностью и половинчатостью было отмечено отношение нового министерства к «свободным стремлениям», к началу земского самоуправления. Н. А. Милютин, следивший в 1861 г. из Рима по письмам Кавелина за начавшимися студенческими беспорядками и с горечью замечавший промахи управлявшего в отсутствие государя Верховного Совета[631], с грустью отмечал отсутствие у тогдашнего растерявшегося правительства способности «осуществить последовательную рациональную программу, будь она составлена хотя бы семью мудрецами и изложена на четвертушке бумаги»[632].
Со своей стороны Н.А.Милютин полагал, «что в России во сто раз легче, чем где-либо, привлечь правительству на свою сторону серьезную часть общества: для этого необходимо делать своевременно потребные уступки, но делать откровенно, с достоинством, без убийственных апологий (старого?) и без канцелярских уловок»[633].
Как раз на такие искренние уступки и прямодушные действия не способен был двуличный П. А. Валуев, на словах стоявший за закон и самоуправление, а наделе горячо охранявший произвол бюрократии и способный, по меткой характеристике великой княгини Елены Павловны, наговорить «много, но сделать немногое»[634]. Не будучи сам убежденным сторонником земского самоуправления, он и подавно был не в состоянии выполнить возлагавшейся на него надежды, рассеять существовавшие «у высшей власти предубеждения против слова земство»[635]. Будучи завзятым бюрократом, П. А. Валуев был способен дать не настоящее самоуправление, а лишь бледное подобие его, quelque chose[636], и как только речь заходила в Государственном Совете о предоставлении земству настоящей власти (право избрания мировых судей было дано земству судебными уставами 20 ноября 1864 г.), Валуев был тут как тут и в мелодраматической позе спасителя отечества произносил страшные слова вроде «государство в государстве» и т. п.[637] С полною наглядностью сказалось такое отношение к делу во всеподданнейшем докладе Валуева от 22 марта 1862 г., который лег в основание проекта земского Положения 1863 г. и который гораздо больше распространяется о «сохранении и ограждении» прав бюрократии от «неуместных притязаний» общества (с. 4), нежели об установлении прав местного общества от власти губернаторов, пред которыми по выражению Б. Н. Чичерина, все привыкло склоняться и которые привыкли, «чтобы все пред ними склонялось»[638]. Словом, валуевский доклад производит такое впечатление, как будто дело шло не об установлении некоторого контроля общества над местным управлением и не об ограничении всемогущей бюрократии, пустившей глубокие корни, а о защите ее от чрезмерных притязаний всесильного самоуправления!
Осенью 1862 г. были опубликованы в газетах основные начала земской реформы. Они имели тот бесцветный характер «не освещенных наукою полумер, паллиативных средств», от которых так настойчиво предостерегал знаменитый ученый, проф. Редкин (см. выше главу IV § 8). Влияние общественного мнения на дальнейшее течение реформы было крайне незначительно. Правда, по внесении 26 мая 1863 г. проекта земского Положения в заседание соединенных департаментов Государственного Совета приглашены были петербургские и московские предводители дворянства и городские головы, но даже и это ничтожное участие общественного элемента не имело никаких последствий, потому что замечания «экспертов», даже самые умеренные, никакого воздействия не оказали. Голос печати также никакого заметного влияния не имел. Для характеристики тогдашнего настроения любопытен инцидент, имевший место в Государственном Совете по поводу одного «литературного проекта». Сославшись на статью официального органа Северной Почты, где сказано было, что при обсуждении земской реформы в Совете будут приняты в соображение и труды литераторов, московский предводитель дворянства просил позволения прочесть краткое извлечение, сделанное им из проекта Московских Ведомостей, «об представительстве землевладения». Против такой профанации[639] высшей государственной коллегии возражал не кто иной, как сам вдохновитель вышеупомянутой статьи Северной Почты (как он сам заявил) двоедушный Валуев, и обсуждение катковского проекта дозволено было лишь при той фикции, что он исходит как бы от самого предводителя дворянства[640].