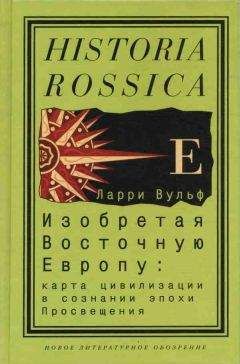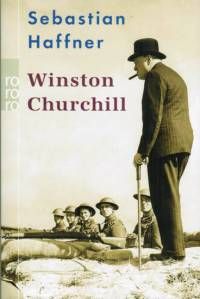В 1748 году Монтескье включил в свой «Дух законов» несколько замечаний о Петре; дополнительные сведения можно было почерпнуть из сочинения Вольтера под названием «Анекдоты о царе Петре Великом», предварительного наброска более подробного описания. Монтескье сделал Петра главным героем главы о «естественных способах изменять нравы и обычаи страны». Попытки изменить их законодательным путем отвергались как неестественные, а принудительное бритье бород и укорачивание кафтанов Монтескье считал проявлениями «тирании», к тому же и вовсе не нужными в России:
Легкость и быстрота, с которой эта нация цивилизовалась, прямо показывают, что сей государь имел незаслуженно низкое мнение о своем народе: они не были дикарями, хотя он и любил их так называть. Жестокие способы, которые он употреблял, были излишними; он бы достиг своей цели и более мягкими способами[515].
Монтескье придерживался теории о «влиянии климата» на нравы и обычаи, из которой следовали принципиальные различия между Европой и Азией, а также между Севером и Югом самой Европы. Внимание к климату как политическому фактору в XVIII веке отчасти отвлекало внимание от формирующейся концепции Восточной Европы; сам же Монтескье, твердо убежденный в существовании «Севера», не сомневался, что Россия — часть Европы. В допетровской Руси нравы и обычаи восходили к завоевателям-татарам и «не были согласны с климатом»; варварство здесь — всего лишь аномалия. Поэтому Петр не навязывал свою волю, «даруя европейской нации европейские манеры и обычаи»[516]. Допуская, что возможны европейские страны, где господствуют неевропейские обычаи, Монтескье предложил новый и важный подход к проведению философских границ.
Монтескье писал о России издалека, рассуждая о климате, тяготы которого ему так и не довелось испытать. В 1728 году он оказался в Вене и получил приглашение посетить Санкт-Петербург; раздумывая, ехать или нет, он заказал копию фонтенелевского панегирика. В конце концов самой восточной точкой его маршрута стала Венгрия, откуда он повернул в Венецию. «Я хотел увидеть Венгрию, — писал он, — поскольку все европейские государства некогда были то, что Венгрия сейчас, и я хотел познакомиться с нравами наших предков»[517]. И Венгрию, которую он и в самом деле видел, и Россию, которую он лишь воображал, Монтескье признавал европейскими государствами; что же касается до обычаев и нравов, то между Восточной Европой и Европой Западной пролегала пропасть, и эти два региона могла связывать лишь теория отсталости и развития.
Вольтер сочинил свои «Анекдоты» в 1748 году, когда русские отказались предоставить ему материалы для подробного описания петровского царствования. В 1745 году он обратился к Елизавете, предложив написать о ее отце, «создать памятник его славе на языке, на котором сейчас говорят почти при всех европейских дворах»[518]. Однако русская Академия еще не была готова доверить жизнеописание Петра иностранцу. Таким образом, отвергнутый русскими Вольтер имел свои причины возразить Монтескье, утверждая, что эта нация всем обязана Петру. «До него, — писал Вольтер в начале своих «Анекдотов», — его народ знал лишь самые начала искусств, которым нас учит нужда». В заключение предполагаемая первобытность этого народа подчеркивалась пародийными математическими расчетами, показывающими, сколь маловероятно, чтобы среди варваров появился некто подобный Петру, «гений, столь противный духу своего народа», и цивилизовал их. Монтескье не находил ничего титанического в достижениях Петра, который лишь сообщил европейской нации европейские манеры; Вольтер же сравнивал Петра с Прометеем, прямо заявляя, что «приобщить Россию к цивилизации» значит привнести изящные искусства с другого края континента: «Сейчас в Петербурге есть французские актеры и итальянские оперы. Великолепие и даже вкус всюду вытесняют варварство». Даже французский язык при дворе Елизаветы (как «почти при всех европейских дворах») распространялся «по мере того, как эта страна становилась цивилизованной». В сущности, Вольтер предлагал и способ измерять относительный уровень развития, и саму модель развития, подходящую для любой страны: «В Африке все еще остаются обширные области, которым нужен свой царь Петр»[519]. Именно в Восточной Европе просвещенный абсолютизм доказал свою состоятельность как политическая теория, универсальная формула движения к цивилизации.
Наконец в 1757 году, когда Франция и Россия стали союзниками в Семилетней войне, Санкт-Петербург откликнулся на давний интерес Вольтера к подробному жизнеописанию Петра. «Вы предлагаете мне, — отвечал он, — то, чего я желал в течение тридцати лет; я не мог бы лучше завершить свою карьеру, чем посвятить мои последние дни и силы этому труду». Для Вольтера работа над историей Петра была логическим развитием интереса, зародившегося десятки лет назад, и когда два года спустя на свет наконец появился первый том, он не указал на нем своего имени, но подписался как «автор Истории Карла XII»[520]. Вопреки жалобам о «последних днях и силах», ему оставалось жить еще целых двадцать лет. Преувеличение собственной дряхлости (в 1757 году ему было 63 года) вполне согласуется с планами Вольтера, намеревавшегося отклонить приглашение Елизаветы, которая звала его в Санкт-Петербург для архивных изысканий.
Отказавшись, он завязал обширную переписку по поводу написания «Истории» прежде всего с Иваном Шуваловым, фаворитом Елизаветы, который обеспечил ему покровительство императрицы и в какой-то мере усмирил недовольных русских академиков. Самое же главное, Шувалов посылал Вольтеру исторические источники, так что Петра, известного любителя путешествий, снова отправили в Западную Европу, чтобы позировать для философического портрета[521]. С самого начала автор намеревался сделать свое сочинение фактом европейской культуры: оно писалось по-французски, а читателями должны были стать все европейские дворы. В своем письме Вольтер напоминал об этом Шувалову, отвергая провинциальный взгляд на проблему: «Мы говорим обо всей Европе, так что ни вам, ни мне не следует ограничивать наш вид шпилями Санкт-Петербурга»[522]. Шпилей этих Вольтер никогда не видел и уж, конечно, не знал, какая с них открывается панорама, но в письмах как бы принимал точку зрения своего русского корреспондента («ни вы, ни я»), дабы вместе они могли преодолеть ее ограниченность.
Именно авторство Вольтера превратило книгу о Петре в событие европейского масштаба, и сам философ вполне это осознавал: «Я предстану перед всей Европой, представляя ей эту историю». Именно по этой причине он сопротивлялся давлению русских, пытавшихся добиться от его сочинения еще большей хвалебности. «Многие образованные люди в Европе уже осуждают меня за то, что я собираюсь писать панегирик и играть роль льстеца», — писал он Шувалову в 1758 году, за год до публикации своего труда[523]. В 1763 году, когда оба тома уже вышли в свет, д’Аламбер в частном письме сообщал, что труд Вольтера «вызывает у меня тошноту низостью и пошлостью своих восхвалений», а по уверению принца де Линя, сам Вольтер признавался ему, что его соблазнили драгоценные меха, принесенные ему в подарок. Двадцатый век не отменил сурового приговора этой книге, и Питер Гэй называет ее «собранием отвратительной лести, притворяющимся историей»[524].
Несомненно, что с 1757 по 1763 год, во время работы над этим замыслом, Вольтер действительно испытывал давление из Санкт-Петербурга; однако источником его зависимости была не слабость к лисьим мехам, а потребность в исторических источниках. Вольтер, сам иностранец, писал свою историю Петра, в значительной мере опираясь на сочинения других иностранцев, главным образом на географический труд Страленберга (изданный по-немецки в Стокгольме в 1730 году и по-французски в Амстердаме в 1757 году, когда Вольтер начал работу над книгой) и воспоминания Джона Перри о его службе Петру в качестве морского инженера (изданные по-английски в Лондоне в 1716-м и по-французски в Париже в 1717 году, когда там был Петр). Вольтер, однако, рассчитывал, что его труд выиграет от использования русских источников, и они действительно прибыли, сначала в 1757 году карты, а затем переводы русских мемуаров, в избытке снабженных военными подробностями. Он хотел «разобраться в хаосе петербургских архивов», подобно тому как императрице Екатерине, на его взгляд, следовало «упорядочить этот хаос» в Восточной Европе, от Гданьска до устья Дуная[525].
Предоставлявшиеся ему архивные выборки неизбежно определяли форму и содержание книги, но русские корреспонденты Вольтера слали ему и прямые указания, и критические замечания, заставляя его вполне обоснованно опасаться, что он окажется в роли «льстеца». В 1758 году он получил от Ломоносова три сочинения о Петре: «Слово похвальное Петру Великому», «Сравнение с Александром Великим и Ликургом», а также «Опровержение некоторых авторов», — которые не отдали должное Петру, в особенности самому Вольтеру и его «Истории Карла XII». Подобные предварительные наставления от Ломоносова говорили о все той же враждебности Петербургской академии; о ней же свидетельствовала и реакция Миллера, откликнувшегося на рукопись Вольтера сотнями поправок и особенно придиравшегося к французскому написанию русских имен. Вольтер избежал необходимости их учитывать, опубликовав свое сочинение в Женеве в 1759 году, якобы для того, чтобы опередить готовящиеся к выходу в Гамбурге и Гааге пиратские издания. Таким образом, неистребимый интерес Западной Европы и к Вольтеру, и к Петру перечеркнул последние попытки Петербургской академии взять образ царя под свой контроль. В 1763 году, в предисловии ко второму тому, Вольтер издевался над полученными им поправками к тому первому. Описывая, к примеру, первобытные народы Российской империи, он упомянул, что они поклоняются овчине, и его немедленно поправили: не овчина, а медвежья шкура. «Медвежья шкура гораздо достойнее поклонения, чем овечья, — саркастически писал Вольтер, — и надобно носить ослиную шкуру, чтобы заботиться подобной безделицей»[526]. Так он превратил академиков в ослов; но «безделица» была не просто этнографической неточностью. Овчины, вновь и вновь возникавшие в описаниях Восточной Европы, были признанной эмблемой отсталости, и, возможно, Вольтер не случайно сделал именно их предметом поклонения.