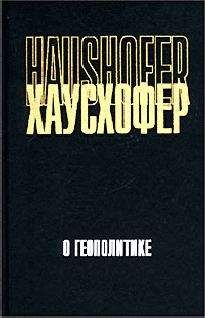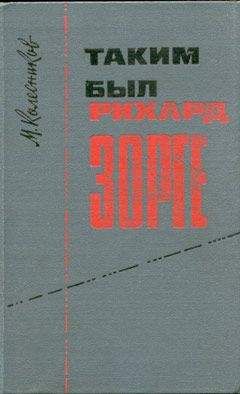После нескольких дней колебаний кабинет Хиранума 28 августа подал в отставку, заявив: «Поскольку в Европе создалась новая, сложная и запутанная обстановка… возникла необходимость в отказе от прежней политики и в выработке нового политического курса… Полагаем, что в данный момент первоочередной задачей является поворот в политике и обновление состава кабинета».[400] Причиной очевидного провала политики правительства и коллективной «потери лица» был отнюдь не сам курс на союз с Германией и Италией и «укрепление» Антикоминтерновского пакта, как до недавнего времени упорно утверждали некоторые историки, но приверженность Хиранума и Арита «дипломатии разведенной туши», нежелание принимать определенные решения, связывать себя обязательствами и брать на себя ответственность.[401] После отставки Арита несколько раз пытался публично оправдаться, дополнительно сыграв на закономерной вспышке антигерманских настроений, но это была лишь попытка «сделать хорошую мину при плохой игре».[402] Еще один бывший министр иностранных дел, атлантист Сато назвал введение советских войск в Польшу, в соответствии с договором с Германией, агрессией и предательством, высказавшись таким образом против сближения с Москвой.[403]
Антикоминтерновский пакт, заключенный в бытность Арита министром и официально провозглашенный одной из основ японской внешней политики, умер – если не по букве (формально-то он остался в силе!), то по духу. Теперь Японии предстояло перед всем миром определить свое отношение к «дорогому покойнику», что оказалось делом весьма нелегким. В книге, адресованной зарубежной аудитории и, похоже, преследовавшей пропагандистские цели, видный политолог и политический аналитик Рояма писал, что заключение договора между Москвой и Берлином «резко ухудшило взаимоотношения внутри «оси» в целом» и что теперь прежний пакт «исчерпал все свои практические намерения и цели», хотя политика Японии в отношении Коминтерна осталась прежней,[404] – осудив таким образом действия Германии. Интересно, что обращаясь к японским читателям, Рояма приветствовал этот же договор как начало формирования «нового экономического и политического порядка в Восточной Европе», а несколько раньше прямо говорил о «новом империализме» Германии, Италии и СССР как атаке на «старый национализм» англосаксов и их союзников, что, с его точки зрения, было явлением сугубо положительным.[405] В подходе Рояма к событиям заметно несомненное влияние геополитических теорий и методов Хаусхофера (и отчасти Макиндера), которые он изучал и пропагандировал.[406] В ноябре 1940 г., возвращаясь к событиям августа 1939 г., Рояма многозначительно назвал пакт Молотова-Риббентропа «решением проблемы, которое пытались предотвратить британские геополитики и которого желали германские геополитики».[407]
Фамилия нового премьера отставного генерала Абэ была названа уже в день отставки его предшественника, а 30 августа он завершил формирование кабинета. Выбор вызвал всеобщее, притом неблагожелательное удивление. По мнению японской прессы, в столь критический момент «назначение льстеца и угодника Абэ новым премьером звучит как насмешка».[408] Уже при первой встрече с советским поверенным в делах Генераловым 7 сентября он произвел «неважное» впечатление «пройдохи и не совсем умного хитреца».[409] «Темная лошадка», по определению британского посла Крейги, человек без опыта государственной деятельности и определенного политического лица, Абэ казался сугубо «переходной» фигурой. Очень многое, разумеется, зависело от нового министра иностранных дел, назначения которого пришлось ждать почти месяц (до 25 сентября), в течение которого в правительстве и в министерстве шла непрерывная борьба. Информируя Галифакса, Крейги уже 31 августа называл возможными кандидатами Сигэмицу и Того, т.е. атлантиста и умеренного «континенталиста», но никак не радикала вроде Сиратори и тем более Осима.[410] Атлантисты ратовали за Сигэмицу, военные и националисты-консерваторы хотели, чтобы Абэ оставил пост за собой (как в свое время Танака Гиити), а «обновленцы» уже не в первый раз выдвигали Сиратори. Аурити докладывал в Рим, что Великобритания лоббирует назначение проанглийского министра, но «наше посольство работает в противоположном направлении».[411] В итоге выбор пал на отставного вице-адмирала Номура, имевшего некоторый дипломатический опыт по урегулированию конфликтов в Китае. Атлантистская ориентация нового министра сомнений не вызывала и отчетливо проявилась в полном нежелании добиваться улучшения отношений с Германией и вообще рассматривать идею японо-германо-советского блока. В Берлине место попавшего в опалу Осима занял посол в Бельгии Курусу. Он решительно назвал предлагавшийся в это время Сиратори проект союза четырех евразийских держав «абсурдным» из-за антисоветского, а теперь и антигерманского настроя японского общественного мнения. Неудивительно, что симпатий Гитлера и Риббентропа новый посол не снискал.[412] Подводя итоги года, Аурити пришел к выводу, что борьба «проамериканской» и «просоветской» (иными словами, атлантистской и евразийской) фракций японского МИД. приводит к сбалансированной, но нерешительной политике, когда ни одна из них не может добиться успеха.[413] Одним словом, снова «разведенная тушь».
В Токио «двойной шок» (определение М. Миякэ) от заключения советско-германского пакта и военных неудач на Халхин-Голе сменился «контршоком» от начала войны в Европе, куда менее сильным и болезненным. Позиция Японии не была полностью прогерманской как из-за «предательства» Гитлера, так и с учетом существовавших дотоле дружеских отношений с Польшей. 4 сентября кабинет Абэ опубликовал заявление о «неучастии в европейской войне»: наблюдатели обратили внимание на выбор слова «неучастие», а не «нейтралитет». В следующем программном заявлении 13 сентября главной задачей внешней политики было названо урегулирование «Китайского инцидента» путем поддержки тех сил, которые согласятся на союз с Японией и Маньчжоу-Го.[414] На втором месте стояла нормализация отношений с СССР: 7 сентября премьер говорил об этом Генералову в Токио, а два дня спустя посол Того подтвердил всё сказанное Молотову в Москве.[415]
«Это падшей Польши тень парит…»
22 августа полпред Майский телеграфировал в Москву:
«Полученное в Лондоне 21-го поздно вечером сообщение о предстоящем полете Риббентропа в Москву для переговоров о пакте о ненападении вызвало здесь величайшее волнение в политических и правительственных кругах. Чувства было два – удивление, растерянность, раздражение, страх. Сегодня утром настроение было близко к панике. К концу дня наблюдалось известное успокоение, но глубокая тревога все-таки остается. Симптомом этого является решение британского правительства созвать на 24-е парламент и принять в течение одного дня «закон об охране королевства», действовавший во время последней войны и отмененный с заключением мира. Закон этот предоставляет правительству исключительные полномочия в деле обороны страны».[416]
24 августа он же записывал в официальном дневнике:
«В городе смятение и негодование. Особенно неистовствуют лейбористы. Они обвиняют нас в измене принципам, в отказе от прошлого, в протягивании руки фашизму… Консерваторы держатся много спокойнее. Они никогда всерьез не верили ни в Лигу наций, ни в коллективную безопасность и сейчас гораздо проще воспринимают возврат Европы к политике «национального интереса»…».[417]
Другого трудно было ожидать.
Официальный Лондон отреагировал на «пакт Молотова-Риббентропа» спешным подписанием 25 августа соглашения о взаимопомощи с Польшей, которое можно назвать «пактом Галифакса-Рачиньского». Переговоры об этом начались еще 19 августа, но зашли в тупик; советско-германский пакт вынудил стороны к экстренным действиям, и Бек немедленно дал Рачиньскому добро на проведение переговоров и подписание соглашения.
Оно было направлено против некоей «европейской державы» и предполагало следующее:
«Статья 1. Если одна из Договаривающихся Сторон окажется вовлеченной в военные действия с европейской державой в результате агрессии последней против этой Договаривающейся Стороны, то другая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет Договаривающейся Стороне, вовлеченной в военные действия, всю поддержку и помощь, которая в ее силах.
Статья 2. 1. Положения статьи 1 будут применяться также в случае любого действия европейской державы, которое явно ставит под угрозу, прямо или косвенно, независимость одной из Договаривающихся Сторон, и имеет такой характер, что сторона, которой это касается, сочтет жизненно важным оказать сопротивление своими вооруженными силами. 2. Если одна из Договаривающихся Сторон окажется вовлеченной в военные действия с европейской державой в результате действия этой державы, которое ставит под угрозу независимость и нейтралитет другого европейского государства таким образом, что это представляет явную угрозу безопасности этой Договаривающейся Стороны, то положения статьи 1 будут применяться, не нанося, однако, ущерба правам другого европейского государства, которого это касается.