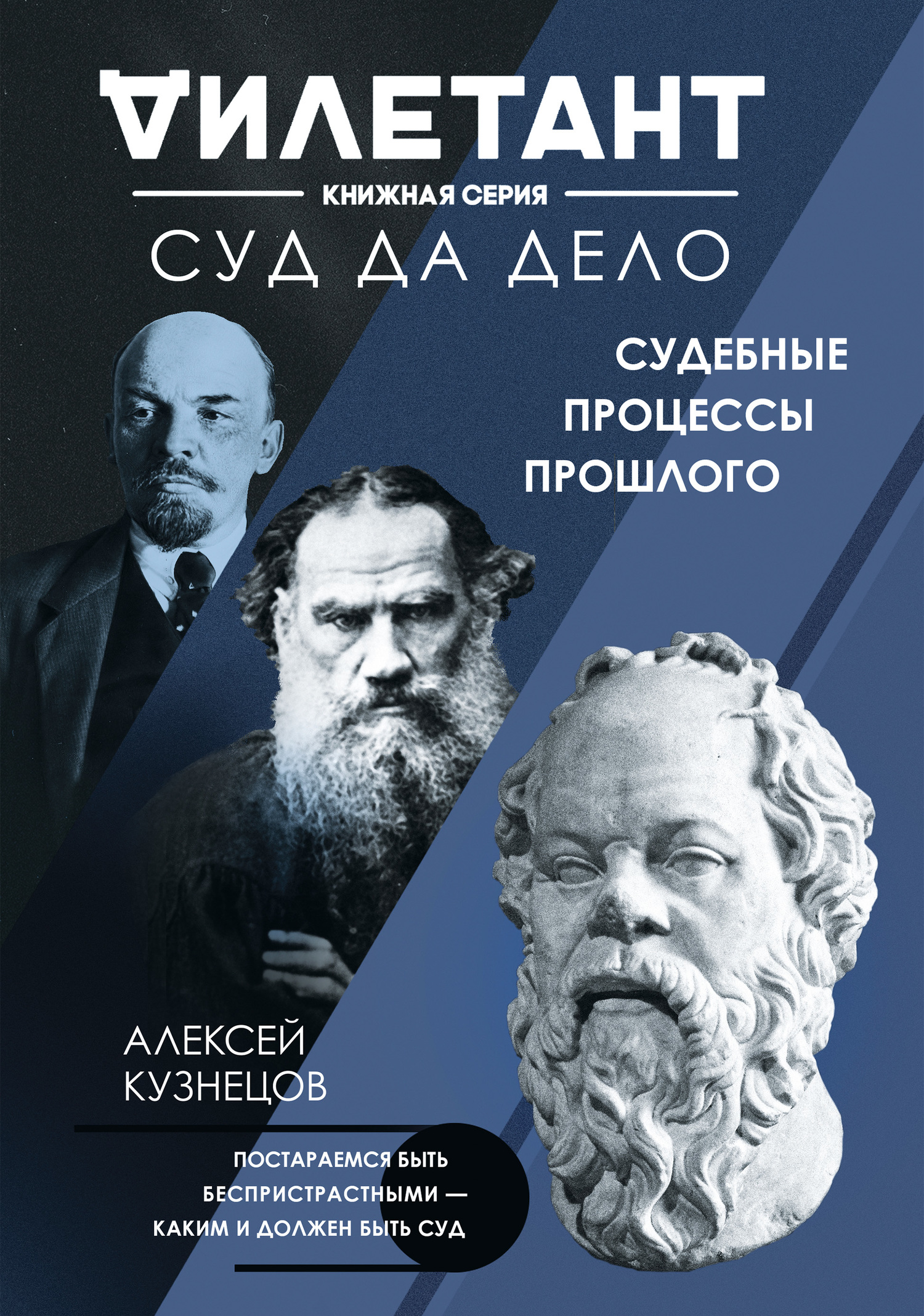и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя».
Михаил Булгаков «Комаровское дело»
Мотив убийств Комаров сформулирует во время процесса сам не без некоторого литературного изящества: «Лошадь кормила, а выпить не давала». Он вообще ставил перед собой несложные цели и шел к ним короткой дорогой. Например, после смерти первой жены (она умерла еще до революции, пока он отбывал срок за кражу) он сознательно выбрал себе в жены женщину тихую и забитую, с двумя детьми, рассчитав, что сможет безнаказанно помыкать ею. Он постоянно бил ее и детей, попрекал куском даже на суде, объясняя тягу к деньгам тем, что «жена моя любила сладко есть, а я – горько пить». Он бравировал во время процесса, говорил, что с такой же легкостью убил бы и 60 человек (что вполне могло быть правдой), что ему интересно было бы лишить жизни священника или цыганку (а вот тут он, похоже, «интересничал», работал на публику «достоевскими» мотивами, хотя вряд ли подозревал о существовании такого писателя).
«По-моему, над интервьюерами, следствием и судом полегоньку даже глумился. Иногда чепуху какую-то городил. Но вяло. С усмешечкой. Интересуетесь? Извольте. «Цыганку бы убить или попа»… Зачем? «Да так»…
И чувствуется, что никакой цыганки убивать ему вовсе не хотелось, равно как и попа, а так – насели с вопросами «чудаки», он и говорит первое, что взбредет на ум…»
Михаил Булгаков «Комаровское дело»
Известный советский психиатр Евгений Краснушкин, один из организаторов знаменитого Института судебной психиатрии им. Сербского, так определил сущность убийцы: «Как в словах, так и во всем его отношении к преступлению, отражается глубокий цинизм, его бездонная моральная тупость и власть над его душой одних грубых влечений. Он нисколько не раскаивался в убийствах, нисколько не жалел своих жертв и думал только о сладком да горьком, к которому его влекло». Он объяснял преступную натуру Комарова с одной стороны – наследственностью, с другой – социальными условиями воспитания в юности, с третьей – войной. Наверное, все это правильно…
Репортер Булгаков был командирован освещать процесс для «Накануне» – была в те годы такая весьма своеобразная газета, выходившая в Берлине, «сменовеховская», активно пропагандировавшая идею возвращения эмигрантов в Россию; для нее писали, помимо Булгакова, Федин и Катаев, Пильняк и Зощенко, и многие другие оставшиеся в России таланты.
Булгаков уловил в Комарове сущность с одной стороны не звериную, но с другой – решительно не людскую: «Репортеры, фельетонисты, обыватели щеголяли две недели словом «человек-зверь». Слово унылое, бессодержательное, ничего не объясняющее. И настолько выявлялась эта мясная хозяйственность в убийствах, что для меня лично она сразу убила все эти несуществующие «зверства», и утвердилась у меня другая формула: «И не зверь, но и ни в коем случае не человек». Существо (Булгаков несколько раз повторяет в своей корреспонденции это слово), действующее по-человечески рационально, но при этом лишенное чего-то; наверное, того, что мы привычно называем «душой»…
«Словом, создание – мираж в оболочке извозчика. Хроническое, холодное нежелание считать, что в мире существуют люди. Вне людей.
Жуткий ореол «человека-зверя» исчез. Страшного не было. Но необычайно отталкивающее».
Михаил Булгаков «Комаровское дело»
Процесс был громким, под него специально выделили зал Политехнического музея, среди разгоряченной публики было немало советских и иностранных корреспондентов, работала кинохроника. Эмоции в воздухе витали предсказуемые: еще во время следствия при выезде для фиксирования показаний на место происшествия мигом собравшаяся толпа чуть не растерзала Комарова, милиция отбила его чудом. «Говорили женщины о наволочках, полных денег, о том, что Комаров кормил свиней людскими внутренностями, и т. д. Все это, конечно, вздор», – пишет Булгаков. Для него же главным было другое: «Но та сущая правда, что выяснилась из следствия, такого сорта, что уж лучше были бы и груды денег в наволочках и даже гнусная кормежка свиней или какие-нибудь зверства, извращения. Оно, пожалуй, было бы легче, если б было запутанней и страшней, потому что тогда стало бы понятно самое страшное во всем этом деле – именно сам этот человек, Комаров».
Комарова и его покорную пособницу-жену расстреляли.
Через почти 40 лет вблизи от места, где один булгаковский герой думал, что решает судьбу другого, иной журналист, аккредитованный на ином процессе, напишет о «банальности зла». Михаил Афанасьевич не использовал именно этих слов, но обыденность и деловитость Петрова-Комарова произвела на него вряд ли менее сильное впечатление, чем отсутствие нравственных колебаний по поводу «выполненной работы» у Эйхмана – на Ханну Арендт. Зло, которое – как казалось Михаилу Афанасьевичу – должно быть инфернальным, надчеловеческим, сложным, вдруг явило свой обыденный лик. Лик не Воланда или Азазелло, а самое большее – госпожи Тофаны из «Бала у Сатаны», входившей в положение бедных неаполитанок, которым прискучили мужья, и продававшей им «какую-то воду в пузырьках».
И этот лик был стократ страшнее.
(суд над учителем Джоном Скоупсом, США, 1925)
Советская пропаганда очень любила вспоминать «обезьяний процесс» в США. В ее интерпретации мракобесная американская Фемида засудила честного учителя, преподававшего школьникам передовое материалистическое учение. На самом же деле подобная трактовка событий далекого 1925 года имеет мало общего с действительностью…
Американская нация создавалась весьма религиозными людьми, причем среди них явно преобладали протестанты радикального толка, настаивавшие на буквальном прочтении Священного Писания: раз сказано, что Бог сотворил человека к концу шестого дня, значит, так и было. Дарвиновская теория происхождения видов и другие естественно-научные концепции XIX века многим американцам представлялись покушением на самые основы национального мировосприятия. Поэтому появление в начале 1925 года в штате Теннесси, одном из оплотов южного консерватизма, нормативного акта, направленного против дарвинизма, выглядело по-своему логично и закономерно.
Эволюция и госфинансирование
«Закон Батлера», названный по американской традиции именем предложившего его законодателя, вводил запрет на преподавание дарвиновского учения в тех учебных заведениях штата, которые полностью либо частично финансировались из его казны: налогоплательщики не затем делятся с государством своими доходами, чтобы их детей учили возмутительным теорийкам. Нельзя сказать, что законопроект прошел гладко: нижняя палата двухпалатного Законодательного собрания Теннесси одобрила его подавляющим большинством голосов, а вот сенаторы пропустили нововведение с большим скрипом. Губернатор и вовсе выразил сожаление, что законодатели занимаются подобной ерундой, но препятствовать не стал: он пояснил, что видит в этом законе в первую очередь стремление оградить школы от антирелигиозных тенденций, и выразил сомнение в том, что тот когда-либо будет использован по прямому назначению.