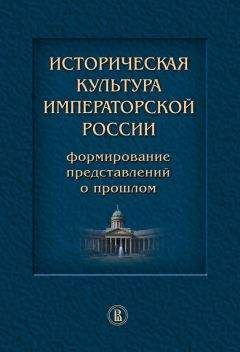«аноблирования» верхушки «промежуточного» слоя сделался ее отрыв от остальной части последнего, а контраст в уровне доходов между верхушкой и массой – решающим препятствием в становлении «менталитета среднего класса». Ренессанс, вместо подрыва, закрепил традиционную иерархию сословий. Более того, он придал ей пространственное выражение. Вокруг королевских дворцов возникали «резиденции знати», превращавшиеся в особые кварталы (Сен-Жермен и Сент-Оноре в Париже), так же как на другом полюсе иерархии образовывались кварталы нищеты, проституции, гетто. Дворянство сторонилось людей физического труда, признавая «гнусными и бесчестными» занятия не только мясников, сапожников, портных, но даже печатников и ювелиров.
Так в условиях культурного подъема, ставшего в значительной степени привилегией дворянского сословия, зарождалась его изоляция, превратившаяся в годы Революции в социальный остракизм. В эту изоляцию внесла свою лепту королевская власть. Действительность, подчеркивает Делюмо, была сложнее историографической традиции, утверждавшей, что королевская власть опиралась на буржуазию. «Абсолютные монархи укрощали дворянство, обновляя его, но они никогда не помышляли о том, чтобы лишить трон блестящего аристократического окружения». Такова диалектика: с ХVI в. «монархии были неотделимы от дворянства – спустя двести лет они станут заложниками дворянства» [751].
Ренессанс явил перекресток противоположных исторических тенденций – социального консерватизма и духовного освобождения. «Вольнодумное направление мысли, которое впоследствии широко распространится, уже начинает обозначаться, но коснется масс только через несколько веков (курсив мой. – А.Г.)», – отмечает Делюмо. И, чтобы понять смену «анархии (sic!) в сфере религии» начала эпохи Возрождения «религиозным возбуждением», породившим протестантскую и католическую Реформации, следует учитывать массовые настроения: «массы вновь обратились к христианству».
Впрочем, попятные тенденции возникли и на уровне элитарного сознания. Оборотной стороной высвобождения личности из традиционной общности (родовых, клановых, общинных связей) становилось острое чувство одиночества в мире: «человек, обнаружив, что он более одинок в мире, чем прежде, в то же самое время ощутил себя и в большей мере обезоруженным перед кознями Сатаны». Это способствовало возникновению и распространению всевозможных страхов, породивших в конечном счете всеобщую панику, в состоянии которой и пребывал христианский мир эпохи.
Эпоха гуманизма в результате ознаменовалась необузданной жестокостью со всех сторон: Папского престола, церковных судов и светских правителей, католиков и протестантов, аристократии и масс. «Редко в какой период истории наилучшее соседствовало с самым скверным [752]», – замечает историк.
Следствием частичного высвобождения личности из тесных уз традиционной общности становится «новое ощущение личной виновности» в происходящем, будь то чума, голод, вторжение турок или церковный раскол и Религиозные войны. «Поскольку индивидуальное сознание (как творение цивилизации) еще не выступило из темноты, – отмечает Делюмо, – то каждый чувствовал себя чудовищно виновным. Видя повсюду зло и чувствуя морально и физически дьявольскую угрозу (этот страх не сумел преодолеть даже Лютер), христиане уверовали больше, чем прежде, в шабаши ведьм и злокозненных евреев, отравляющих колодцы» [753]. Так, пробудившаяся совестливость находила крайне извращенные формы выражения.
В атмосфере всеобщих страхов и развивалось религиозное учение, явившееся альтернативой гуманизма Возрождения. В известной мере у них была общая основа – «утверждалась индивидуалистическая религия», и «более индивидуализированное благочестие» желало «личного контакта с божественным посланием». Подобно протестантам, гуманисты, добивавшиеся перевода Библии на национальные языки и возможности непосредственного (без услуг священства) ознакомления с ней верующих, выражали «глубокие надежды своего времени».
Однако дальше пути расходились, и спор относительно свободы человеческой воли между Эразмом Роттердамским и Лютером сделался «кульминационным моментом противостояния между гуманизмом и Реформацией». Спасение человека по Лютеру, за счет лишения его свободы воли, было неприемлемо для гуманистов. Пессимизму в отношении земного мира, «погрязшего в грехе», богословие Реформации дало как компенсацию «абсолютную веру в Спасителя». В реформаторском учении «solo fide» («спасает только вера») заключалось нечто вроде «бегства к Богу» от действительности. Так, эпоха Возрождения стала, по Делюмо, «свидетелем триумфа учения, основанного на отчаянии и вере в абсолютную неспособность человека осуществить самому хотя бы одно доброе дело» [754].
Напротив, идеи гуманистов, мысли Эразма сформировали «оптимистическое течение» Возрождения, к которому примкнули культурные деятели, оставшиеся в лоне католичества, и иезуиты со своим «оптимистическим богословием», и независимые протестанты, отрицавшие догмат о первородном грехе. Спасая идею о свободе воли, они, пишет Делюмо, «открывали путь к веку Просвещения, у которого имелась только одна догма – прогресса человечества» [755]. Это течение, которое, видимо, и само заслуживает название «прогрессивного», было в своей основе синкретическим.
«Мыслители отходили от христианства» [756], – заключает Делюмо; но лишь меньшинство – Делюмо указывает среди французских гуманистов на Этьена Доле (1509–1546) и Жана Бодена (1530–1596) – порывало с ним. Доле – «принц либертинов» [757], по Февру, не оставил четкого изложения своего кредо: преследователи называли его одновременно и «атеистом», и «еретиком». Он был одним из зачинателей независимого книгопечатания во Франции и публиковал как труды античных авторов, в которых теологи усмотрели отрицание бессмертия души, так и современные сочинения, проникнутые реформатскими идеями. Некоторое время Доле пользовался заступничеством Франциска I; но в конце концов был сожжен по приговору теологов Сорбонны, став «первым мучеником Ренессанса».
Посмертная судьба Доле оказалась не менее драматичной. При Третьей республике (1889) на парижской площади Мобер, в нескольких шагах от места сожжения, ему был воздвигнут выразительный памятник в виде статуи человека со связанными руками и печатным станком у подножья. Во время борьбы за Республику памятник стал местом сбора ее сторонников (см. гл. 3), тех, кого называли «дрейфусарами», за что и был разрушен во время нацистской оккупации (1942). Одновременно был разрушен сооруженный по ассоциативной связи казни Доле с сожжением Жанны д’Арк памятник Доле в Орлеане. Однако в 1955 г. у мэрии этого города был установлен вновь отлитый бюст. Немало улиц и площадей французских городов, в том числе в Париже, носит имя Доле.
Более типичным случаем свободомыслия того времени Делюмо вслед за Февром считает позицию Рабле (1494–1553). Автор «Гаргантюа и Пантагрюэля» презирал священников и монахов, отвергал паломничество, культ святых и индульгенции, был, таким образом, ярким представителем «индивидуалистической религии», которая, однако, по Делюмо, «стремилась остаться христианской» [758].
Люсьен Февр, пребывая в оккупированном Париже (немаловажный факт для формирования концепции), сформулировал парадигму эпохи Возрождения, которая явилась для него и его последователей отправной точкой переоценки всего духовного развития Франции в раннем Новом времени. Позиция Февра была предельно полемической: «Пытаться сделать из ХVI в. век скептиков, либертинов, рационалистов и прославлять его как таковой – это наихудшее из ошибок и заблуждений. Совершенно напротив, усилиями своих лучших представителей он стал веком вдухновления (inspiré). Это был век, который во всем искал прежде всего отражение божественного (курсив мой. – А.Г.)».
«Шок», по словам Февра, произвело на него предисловие Абеля Лефранка к академическому изданию