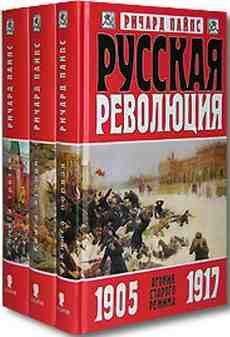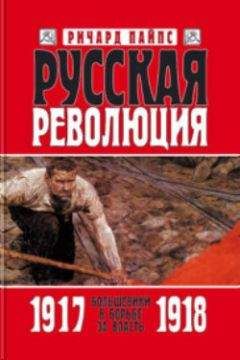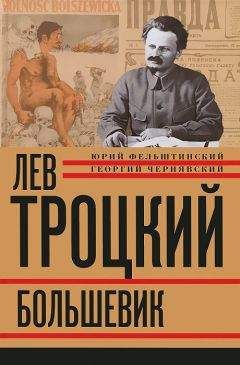Очевидно, что весь комплекс «буржуазных» идей был большевикам отвратителен. Раз революционеры вознамерились свергнуть существующий порядок, от них трудно было ожидать признания священности международного правопорядка. Обращение к народам минуя их правительства было сущностью революционной стратегии. Что же касалось честности и доброй воли в международных отношениях — здесь большевики, как и другие русские радикалы, полагали, что соблюдение моральных норм обязательно только внутри движения, в отношениях между товарищами; в отношениях же с классовым врагом применялись законы войны. В революции, как и на войне, единственным значимым принципом было «кто кого».
В течение нескольких недель после Октябрьского переворота многие большевики ожидали, что их пример положит начало революциям в Европе. Каждое донесение из-за рубежа о промышленной забастовке или мятеже воспринималось с восторгом — как «начало». Зимой 1917/1918 годов большевистская «Красная газета» и другие партийные органы что ни день выходили с аншлагами, возвещающими о революциях, занимающихся в Западной Европе: сегодня в Германии, завтра — в Финляндии, послезавтра — во Франции. Покуда ожидание было живо, большевикам не требовалось размышлять над внешней политикой — можно было постоянно возвращаться к излюбленному занятию: разжигать пожар революций.
Но к весне 1918 года мечты эти несколько пожухли. У русской революции все не появлялось подражателей. Мятежи и забастовки в Западной Европе повсеместно подавлялись, и «массы» продолжали истреблять друг друга, вместо того, чтобы выступить против «правящих классов». Осознав положение вещей, большевики срочно принялись за выработку революционной внешней политики. Руководствоваться им было нечем, поскольку ни работы Маркса, ни пример Парижской коммуны не говорили, как это делать. Самая большая трудность заключалась в противоречивости их интересов как, с одной стороны, руководителей суверенного государства, а с другой — самозваных вождей мировой революции. В своем последнем качестве большевики отрицали право других, несоциалистических, правительств на существование и не признавали традиционного ведения международных дел через глав государств и их министров. Им хотелось разрушить, с корнем выкорчевать всю структуру национального «буржуазного» государства, и с этой целью они призывали «массы» за рубежом к восстанию. Однако, поскольку они сами теперь возглавляли суверенное государство, им было не избежать контактов с другими правительствами — по крайней мере до тех пор, пока последние не будут сметены пожаром мировой революции, — и контакты эти приходилось поддерживать в соответствии со стандартами традиционного «буржуазного» международного права. Более того, они были вынуждены прибегать к этим стандартам как к защите от внешнего вмешательства в свои внутренние дела.
Здесь-то двойственная природа коммунистического государства, формальное разделение правительства и партии сослужили большевикам отличную службу. У выработанной ими внешней политики было два лица — одно традиционное, другое — революционное. Для общения с «буржуазными» правительствами был создан комиссариат иностранных дел — учреждение, укомплектованное исключительно надежными большевиками, подчиняющимися указаниям Центрального Комитета. Функционировал он, по крайней мере внешне, в полном соответствии с принятыми дипломатическими нормами. В тех странах, где это им было позволено, главы советских иностранных миссий, называющиеся не «послами» и «посланниками», а «политическими представителями», или «полпредами», занимали помещения бывших российских посольств, облачались в визитки и котелки и вели себя совсем как их коллеги из «буржуазных» миссий*. «Революционная дипломатия» (название это составлено из противоречащих друг другу слов) стала уделом большевистской партии, действовавшей либо через специально созданные органы, такие, как Коммунистический Интернационал, либо самостоятельно. Агенты партии возбуждали революции и вели подрывную деятельность против тех самых иностранных правительств, с которыми комиссариат иностранных дел поддерживал корректные отношения.
* В первую очередь советские полпреды были размещены в странах, придерживавшихся нейтралитета: В.В.Боровский — в Стокгольме, Я.А.Берзин — в Берне. После ратификации Брестского мира А.А.Иоффе возглавил миссию в Берлине. Попытка большевиков назначить сначала Литвинова, а затем Каменева полпредами при Королевском дворе в Лондоне потерпела неудачу. Франция также не принимала советского посланника и согласилась на это лишь в конце гражданской войны.
Подобное разделение функций, отражавшее внутреннюю двойственность советской России вследствие разделения партии и государства, была отмечена Свердловым на VII съезде большевистской партии в процессе обсуждения Брестского мира. Комментируя статьи договора, запрещающие сторонам заниматься агитацией и пропагандой, он говорил: «Из подписанного нами договора, который мы должны в скором времени ратифицировать на съезде, неизбежно вытекает, что мы в качестве правительства, в качестве Советской власти, не сможем вести той широкой международной агитации, которую мы до сих пор вели, но это совсем не значит, что мы хотя бы на йоту стали меньше заниматься такой агитацией. Но нам придется теперь сплошь да рядом такую агитацию вести не от имени СНК, а от имени ЦК нашей партии»4. Представлять партию частной организацией, за действия которой «советское» правительство не несло никакой ответственности, — этой тактики большевики придерживались с комическим упорством. Когда, например, в сентябре 1918 года Берлин выразил протест против антинемецкой пропаганды в русской прессе (печать к тому времени полностью была под контролем большевиков), комиссариат иностранных дел коварно ответил: «Русское правительство нисколько не в претензии на то, что германская цензура и германская полиция не преследуют органов печати за подобную злобную агитацию против государственных учреждений России, т.е. против советского строя... Считая вполне допустимым отсутствие каких-либо мер подавления со стороны германского правительства против свободно выражающих свою политическую и социальную противоположность по отношению к советскому строю органов немецкой печати, оно считает столь же допустимым подобное поведение по отношению к германскому строю со стороны частных лиц и неофициальных газет в России... Нельзя возразить самым решительным образом против часто встречающихся в заявлениях германского генерального консульства представлений, будто русское правительство может полицейскими мерами направлять русскую революционную печать в ту или иную сторону и бюрократическим воздействием внушать ей те или иные взгляды»5.
Совсем иначе вело себя большевистское правительство, когда иностранные державы вмешивались во внутренние дела России. Уже в ноябре 1917 года Троцкий, комиссар иностранных дел, выразил протест против «вмешательства» в дела России, придравшись к тому, что послы союзников, не зная наверное, кто представляет законное правительство России, направили дипломатическую ноту главнокомандующему генералу Н.Н.Духонину6. Совнарком никогда не упускал возможности заявить протест против нарушения иностранными державами принципа невмешательства во внутренние дела, при том что сам нарушал эти принципы повсеместно.
* * *
Как уже отмечалось, Ленин был готов принять любые условия Четверного союза, но действовать ему приходилось с чрезвычайной осторожностью из-за широко распространившегося подозрения, что он — германский шпион. Поэтому вместо того, чтобы немедленно вступить в переговоры с Германией и Австрией, что было бы для него предпочтительнее, он обратился с призывом начать мирные переговоры ко всем воюющим сторонам. В действительности же установления общего мира в Европе он как раз и хотел избежать: мы уже видели, что одной из причин поспешности, с которой осуществлялся Октябрьский переворот, был страх Ленина перед заключением такого мира, поскольку в этом случае он терял возможность развязать гражданскую войну в Европе. Теперь же, когда игнорировались все попытки говорить о мире, включая предложения президента Вильсона в декабре 1916 года, мирную резолюцию германского Рейхстага в июле и папские воззвания в августе 1917-го, Ленин мог не опасаться, что его начинание приведет к нежелательным последствиям. Как только союзники откажутся от его предложений, а у Ленина имелись все основания считать, что именно так они и поступят, у него будут развязаны руки для самостоятельных действий.
Подготовленный Лениным и принятый Вторым съездом Советов документ, примечательно озаглавленный «Декрет о мире», предлагал воюющим сторонам заключить трехмесячное перемирие. Предложение это подкреплялось упованиями на то, что рабочие Англии, Франции и Германии «всесторонней решительной и беззаветно энергичной деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации»7. Джордж Кеннан охарактеризовал этот «декрет» как акт «демонстративной дипломатии», имеющей целью не «привести к заключению свободно принятых и взаимовыгодных соглашений между правительствами, а скорее поставить в тупик другие правительства и возбудить недовольство в народах их стран»*. В этом же духе были выдержаны и другие обращения большевиков, призывающие народы воюющих держав к восстанию8. Как глава государства Ленин мог теперь проводить программу циммервальдской левой.