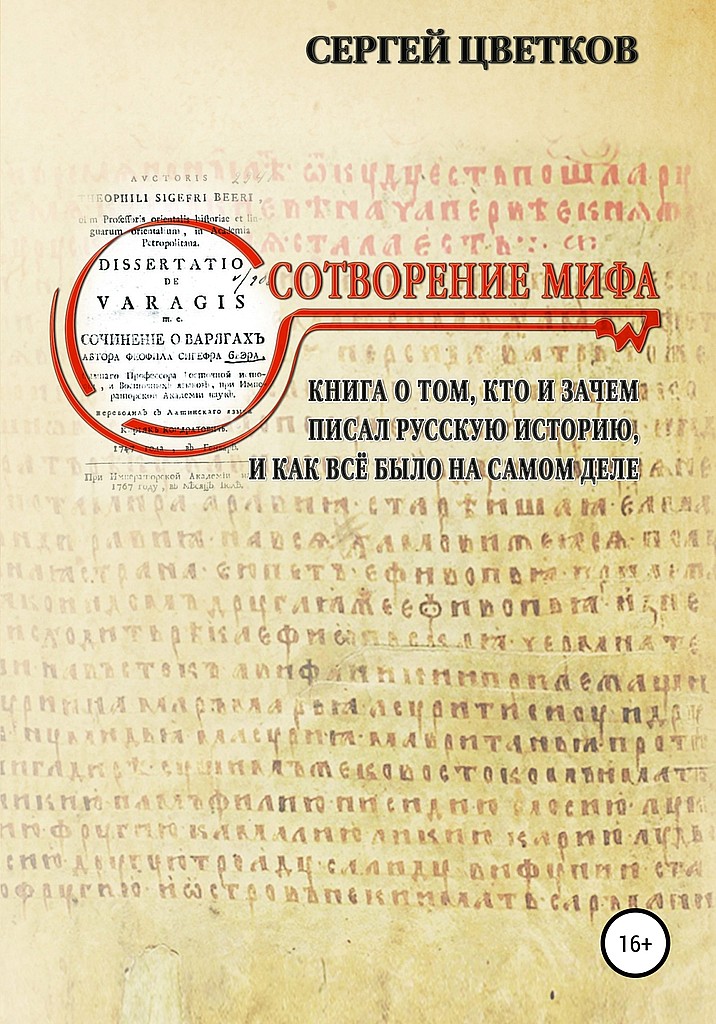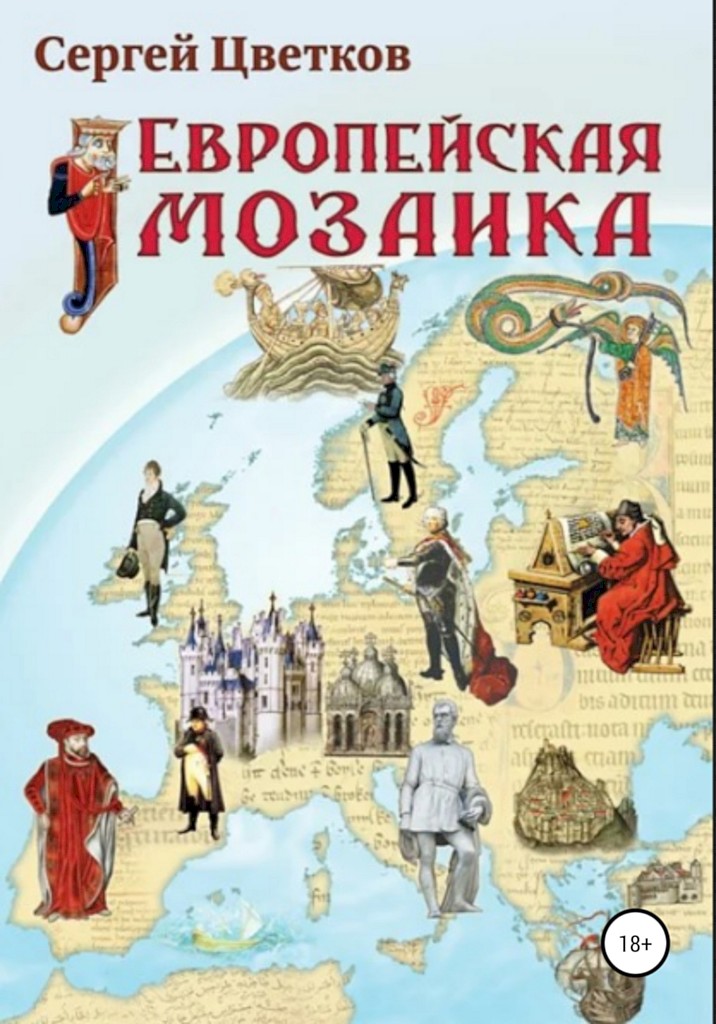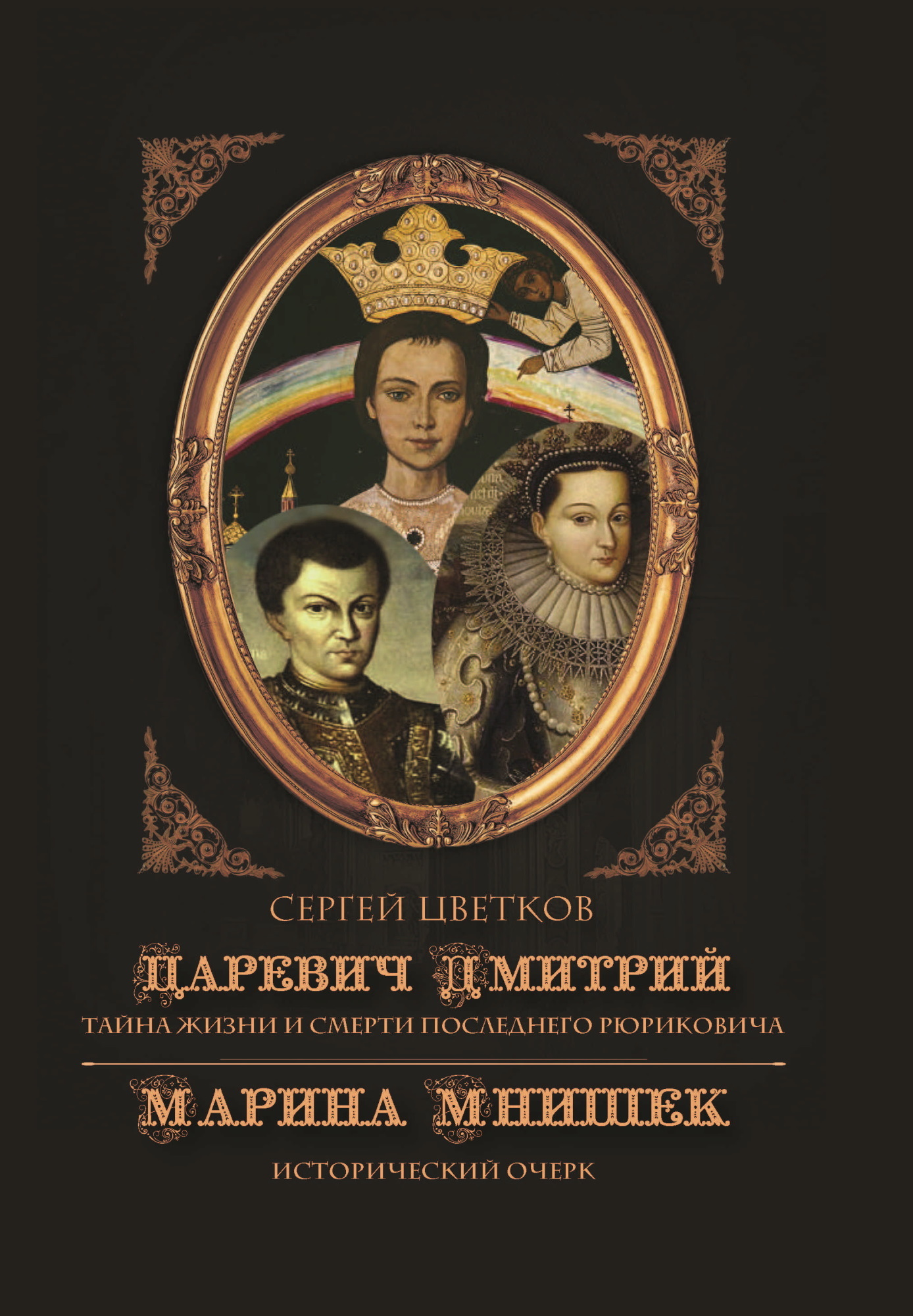как отказаться впредь от какой бы то ни было поддержки с его стороны и, рассчитывая лишь на собственные силы, пуститься в неизвестность и самостоятельно добиваться подобающего положения в жизни в чужом огромном мире». На первых порах он устроился простым учителем в домах видных представителей немецкой колонии, а в 1801 году (всё-таки при ходатайстве отца) получил место ординарного профессора Московского университета на кафедре политической экономии и дипломатики. Свои жизненные цели молодой Шлёцер формулировал с предельной ясностью: «Я знаю только две вещи, которые заставляют меня ощущать полный душевный подъём: это честь и приобретение денег» (письмо к матери от 26 апреля 1801 года); отца он известит, что надеется в Москве «заработать почёт и деньги» (письмо от 7 июля 1802 года). Старший Шлёцер мог утешить себя тем, что его блудный сын является, по крайней мере, его точной копией.
Сам он в своих научных исследованиях всё чаще вновь обращался к русской тематике. Иначе и быть не могло для того, кто некогда признался, что «охота к русской истории сделалась у меня страстью». Его научный аппетит подогревала университетская библиотека, которая регулярно пополнялась огромным количеством книг и рукописей из России — их высылал, до девяти посылок в год, гёттингенский выпускник, «первоприсутствующий член» Медицинской коллегии барон Григорий Фёдорович фон Аш (1729–1807). «Коллекция Аша» превратила Гёттингенский университет в крупнейший центр зарубежной славистики.
Шлёцер с одобрением следил за валом публикаций летописных списков — уже известных ему, а также недавно найденных. Это был настоящий издательский бум, исходивший из трёх центров: Академии наук, Московского университета и Синодальной типографии. За три десятилетия, истекших после отъезда Шлёцера из России, вышли отдельные тома Лицевого летописного свода, Академический и Синодальный списки Новгородской первой летописи, несколько редакций Сибирского летописного свода, Львовская, Воскресенская, Софийская первая летописи, Типографская летопись, Летопись о многих мятежах, Двинской и Архангелогородский летописцы, Нижегородский летописец, Русский временник [169].
Труды по древней русской истории, выходившие из-под пера российских коллег, вызывали у Шлёцера гораздо меньше энтузиазма: «Всё, до сих пор в России напечатанное, ощутительно дурно, недостаточно и неверно». Он сетовал, что «эти господа продолжали, как и прежде, в свободное время заглядывать в две-три рукописи, сравнивать их слегка и выбирать из разнословий то, которое понравится, не разбирая, принадлежит ли это слово Нестору, или вписано глупым переписчиком». В результате «русская история начала терять ту истину, до которой довели её было Байер и его последователи, и до 1800 г. падение это делалось час от часа приметнее».
Самое острое возмущение вызывала у него «глупая сказка об Ост-Индской торговле, производимой чрез Россию ещё до Рурика, от реки Гангеса до Белого моря и до истечения Одера в Балтийское море», которая «принята была всеми русскими за доказанную истину». В 1800 году (самое дно научной пропасти, по Шлёцеру) вышло «Историческое и статистическое изображении России» Андрея Карловича Шторха (1766–1835), где доказывалось, что уже в VIII веке через русские земли пролегал торговый путь, связующий арабский Восток с Северной Европой, и что Рюрик, придя в Новгород, нашёл здесь выгодный торг. Шлёцер обозвал мысли Шторха «неучёными и уродливыми» [170].
Наконец, увидев переиздание сочинения Иоганна Готлиба Георги (1729–1802) о народах, издревле в России обитавших [171], где в главе о «Россиянах» были «вытащены опять из гробов почившие было… лет 70 тому назад Мосох Яфетович и Скиф, правнук Яфетов», Шлёцер не выдержал: «Тут экспрофессор русской истории потерял всё терпение, с которым он лет 10 смотрел издали на этот плачевный упадок, и написал эту книгу».
Книга называлась «Нестор».
Шлёцер поставил себе целью представить публике «очищенного Нестора», то есть восстановить первоначальный летописный текст, отделённый от позднейших наслоений — вставок и искажений, внесённых продолжателями «Повести временных лет» и «невежественными» переписчиками. Для этого он занялся сличением 15 наиболее исправных летописных списков (из тех 12 напечатанных и 9 рукописных, которые были у него на руках). Текст «Повести временных лет» он разбил на «сегменты», от трёх до пятнадцати строк, в которых выделил слова и выражения, по его мнению, порченые и не принадлежащие Нестору.
В конце каждого «сегмента» был помещён обширный исторический комментарий. Тут несравненная эрудиция автора проявлялась наиболее впечатляющим образом, так как для объяснения того или иного летописного фрагмента или даже одного слова Шлёцер привлекал всю имевшуюся на то время источниковедческую и историографическую литературу.
Однако всё это была только «низшая», или «малая» критика, где Шлёцер выступил главным образом в качестве лингвиста и текстолога. На «высшую» критику — то есть установление достоверности известий «начальной летописи», выплавленной в горниле научной экзегетики, — у него уже не хватило сил. Само «очищение» летописного текста он довёл только до вокняжения Владимира в Киеве (980 год).
«Нестор» увенчал не только многолетние изыскания самого Шлёцера в области русского летописания, но и весь процесс изучения древнерусских памятников в XVIII веке. Впервые в российской историографии вопрос о достоверности сведений источника был увязан с проблемой происхождения текста, а методы историко-филологической критики школы Михаэлиса были предъявлены во всём блеске и на русском материале. Древнерусское источниковедение наконец могло опереться не на шаткие опоры дилетантских и полудилетантских суждений, а на прочную ступень научного метода.
Однако «Нестору» выпала странная судьба. Продолжения в русской науке он не имел. Именно его главная цель — вылущивание из летописных списков древнейшего ядра, «первоначального Нестора», — уже в первой половине XIX века будет признана недостижимой и бесперспективной. Шлёцер представлял русское летописание растянувшимся на столетия процессом бесконечного переписывания и «порчи» Несторова протографа, который один только и был достоин научного изучения в качестве достоверного источника. Летописные списки для него были звеньями одной цепи, перебирая которые (то есть сравнивая их тексты), можно добраться до исходного звена.
Русские учёные XIX — начала XX века подойдут к изучению древнерусского летописания с другого конца. Вместо поиска прототекста «Повести временных лет» (и, соответственно, пренебрежения ко всему тому, что привнесено в него «невежественными переписчиками») они займутся изучением полных текстов летописных сводов, их источников и редакций. С этим подходом и будут связаны революционные открытия в изучении истории русского летописания.
Наиболее глубокое влияние на русскую историческую науку «Нестор» окажет не своим методом исследования летописи, а двумя суждениями о начале русской истории, которые Шлёцер высказал в своих исторических комментариях к