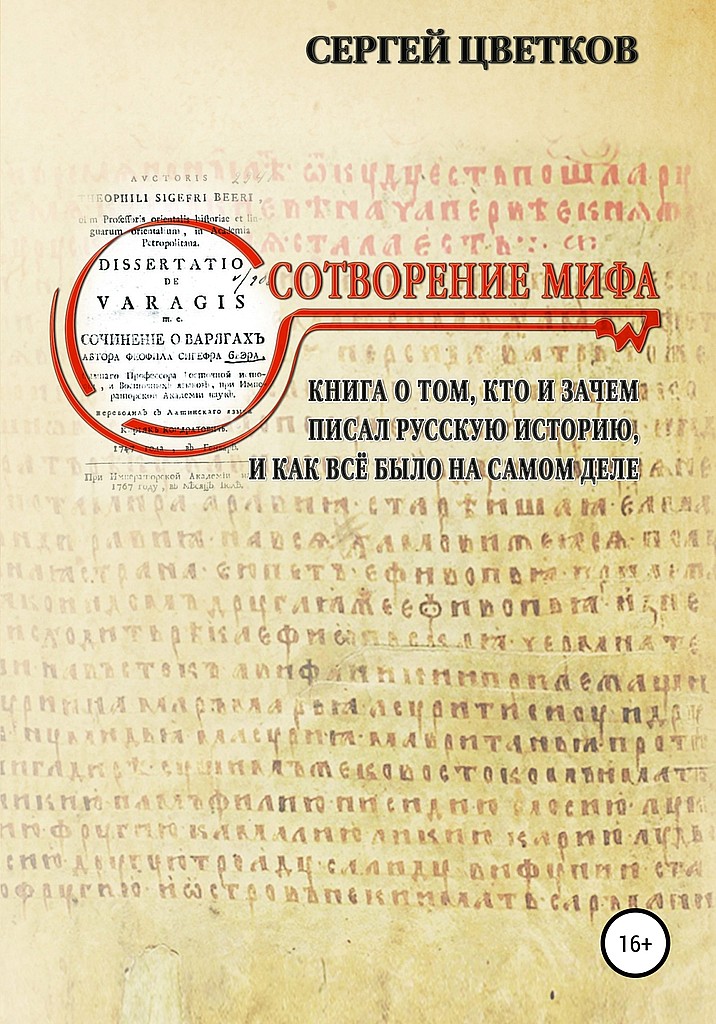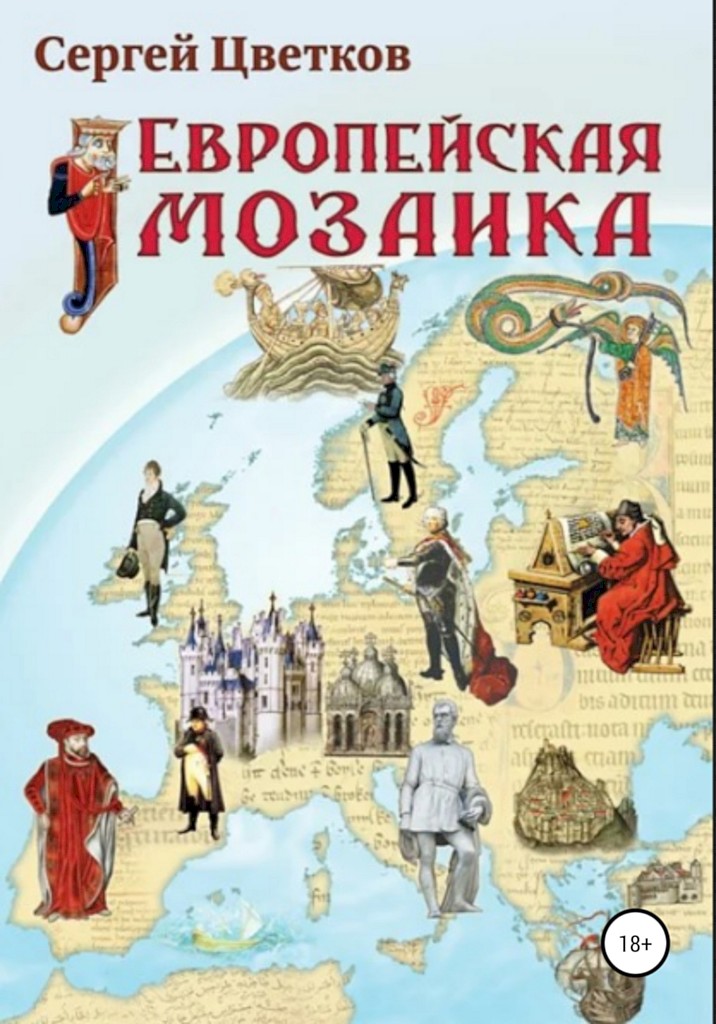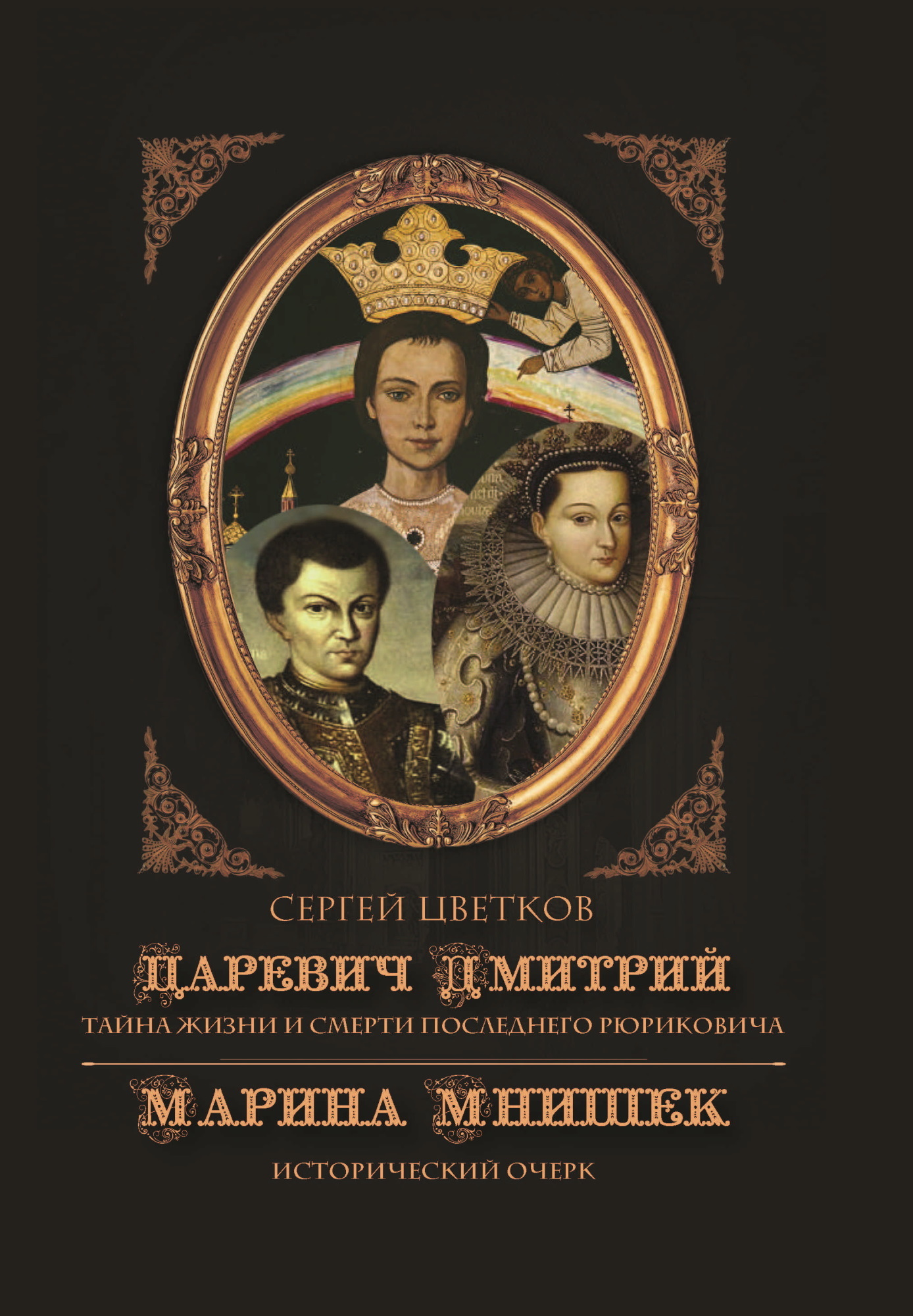летописному тексту.
Говоря об «очищенном Несторе», нельзя было, разумеется, миновать «варяжский вопрос». И вот Шлёцер пишет, разъясняя значение слов «варяги» и «русь»: «Начало Руси — не теперь отыскано, ибо слава ещё принадлежит Байеру, — но выведено из всякого сомнения. Никто, кто только что-нибудь читал о норманнах, не может принять варягов не за кого более, кроме норманнов…».
Это категорическое заявление противоречило тому, что он утверждал в «Probe russischer Annalen» («Опыт изучения русских летописей»): «Недоказуемым остаётся, что варяги Нестора были именно шведами». Шлёцер имеет мужество не скрывать этого факта и извещает читателей, что отказывается от гипотез, которые поместил в «Опыте»: «Через 35 лет позволено себе противоречить, то есть между тем чему-нибудь ещё понаучиться».
Удивительно здесь то, что с тех пор в европейской и российской историографии не было выдвинуто ни одного нового доказательства скандинавского происхождения варягов и руси. Понаучиться чему-нибудь ещё было не у кого. Убеждая читателей в якобы не подлежащем сомнению норманнстве летописной руси, Шлёцер вытаскивает на свет Божий «свидетельство» архимандрита Киприана, «руотси», Рослаген и т. д., то есть все те траченные молью измышления шведских учёных, которые не произвели на него никакого впечатления в 1768 году. По словам самого Шлёцера, изменить своё мнение об этнической природе варягов его заставило лишь более складное изложение всех этих доводов в «Исследованиях по истории восточноевропейских народов» шведского историка Юхана (Иоганна) Тунманна (1746–1778) [172].
И всё же в одном пункте он Тунманна дополнил, а именно развил его тезис о том, что призвание скандинавских конунгов приобщило восточных славян к цивилизации и заложило основы русской государственности. Причём, в свидетели он призвал самый достоверный, с его точки зрения, источник — «очищенного Нестора», по словам которого до прихода варягов славяне (за исключением полян, живущих «кротко, тихо и стыдливо») «живяху звериным обычаем, живяху скотски». И Шлёцер, ухватившись за эти слова, пишет: «Да не прогневаются патриоты, что история их не простирается до столпотворения, что она не так древня, как история эллинская и римская, даже моложе немецкой и шведской. Пред сей эпохой (то есть до призвания Рюрика. — С. Ц.) всё покрыто мраком, как в России, так и в смежных с нею местах…» В другом месте он приравнивает восточных славян IX века по степени дикости к американским индейцам: «А каков был этот север с 800 года, когда мало-помалу начал открываться со многих сторон?.. Люди в нём уже были, но верно не в большом числе: ибо чем им питаться? Люди, разделённые на малые орды, предводительствуемые старейшинами или кациками, которых баснословы, следуя древнему греческому обычаю, называют царями и князьями; люди, очень способные к образованию, которого однако же сами себе дать не могли, а должны были ожидать от внешнего побуждения; люди, не имевшие политического постановления, сношения с иноплеменными, письма, искусства, религии…
Вот так изображает честный Нестор землю свою до Рурика, то есть до 860 года: как пустыню, в которой жили порознь небольшие народы, которых всех исчисляет он подробно и часто с точностью определяет место их пребывания; которые жили, а не кочевали; жили в городах, не похожих на нынешние города, а на огороженные деревни».
И «кто знает, — заключает Шлёцер, — сколь долго пробыли бы они в этом состоянии, в этой блаженной для получеловека бесчувственности, если бы не были возбуждены» нападениями норманнов, которые «назначены были судьбою рассеять… семена просвещения».
Заверяя читателей в том, что «ни один учёный историк» во всём этом не сомневается, Шлёцер, несмотря на своё воспитание в школе научной библеистики, не подозревал, что летописная характеристика «звериной жизни» восточнославянских племён не является историческим свидетельством современника, а восходит к тексту 3-й книги Ездры: «Не погубляй тех, которые жили по-скотски, но воззри на тех, которые ясно учили закону Твоему» [173]. Данный фрагмент «Повести временных лет» несёт в себе концептуальный, а не строго исторический смысл. Летописцу важно было представить полян, пусть пока ещё и «поганых», как прочие восточнославянские племена, — людьми, придерживающимися нравственного закона, и потому достойными в будущем первыми в Русской земле принять крещение. Ведь апостол Павел учил, что «когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствуют совесть и мысли их…» (Рим. 2:14–15). Отделяя полян от других восточнославянских племён по их «закону», киево-печерский патриот пытался таким образом доказать богоизбранность своих соотечественников, «кыян», — народа-праведника, ради которого Господь «не погубляет» Русскую землю.
Уже в недалёком будущем этим оракулам Шлёцера суждено было стать библией норманнистов, а в более отдалённом — обнаружить странное идейное родство с русофобскими теориями конца XIX — начала XX века о неспособности славян к государственному строительству.
Между тем в самом Шлёцере не было ни капли русофобии. Российская держава, русский народ, русская история, русский язык всегда вызывали у него неподдельное воодушевление. В своих печатных трудах и переписке он неоднократно высказывался о своём «русском патриотизме» и о «моей русской гордости». И это не были пустые слова.
В начале лета 1802 года после долгого перерыва «русский клуб» в Гёттингене начал пополняться новыми лицами. Это были командированные студенты, питомцы Московского университета, к которым присоединилось несколько молодых людей из богатых семей, которые путешествовали за свой счёт. Все они отлично устроились, поскольку даже студентам содержание было определено в 750 рублей. Один из прибывших, Алексей Гусятников, известил своих московских знакомых, что сразу же по приезде нашёл в центре города хорошую квартиру из двух комнат на втором этаже дома. Хозяин снабжал жильцов сахаром, кофе, и вообще «был известен как самый дешёвый и услужливый купец».
В университете молодых людей ждал радушный приём. Многие профессора с симпатией относились к России и молодому русскому императору Александру I; кое-кто даже был не прочь по приглашению российского Министерства народного просвещения занять кафедры в только что учреждённых университетах в Харькове и Вильно.
Но никто не встречал гостей из России с большим радушием, чем Шлёцер. Каждый из них получил приглашение побывать у него дома и каждого он встречал словами: «Вы наполовину мой земляк!» Шестидесятисемилетний Шлёцер окружил русских студентов почти отеческой заботой. Гусятников писал в Москву, что когда ему случилось заболеть, Шлёцер несколько раз лично приходил справиться о его здоровье, а провожая его