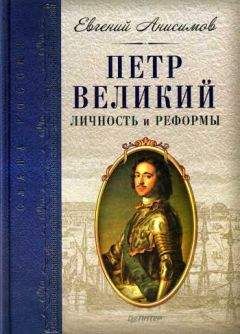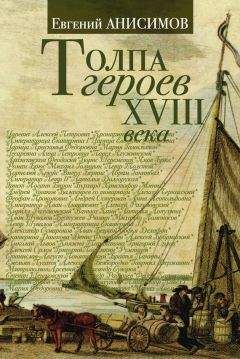Нетрудно представить себе петровские «сентенции» церковникам, хранившим слоновую кость вместо мощей святого. Примечательна и история с экскурсией Петра в музей Лютера в Виттенберге. Осмотрев место захоронения великого реформатора и его библиотеку, Петр с сопровождающими «были в его палате, где он жил и за печатью на стене в той палате указывали капли чернил, и сказывали, что, когда он, сидя в той палате, писал и в то время пришел к нему диавол, тогда будто он в диавола бросил чернильницу, и те чернила будто тут на стене доныне остались, которыя сам государь смотрел и нашел, что оныя чернильныя бразки новы и сыроваты; потом просили тамошние духовные люди, дабы государь подписал в той палате что-нибудь своею рукою на память своего бытия и по тому их прошению государь подписал мелом сие: чернила новыя и совершенно сие неправда».
Но, говоря о подобных, довольно характерных для Петра проявлениях рационализма, не следует впадать в крайность, преподносить их как свидетельство его атеизма. Примечателен и не лишен правдоподобия рассказ Нартова о посещении новгородского собора Святой Софии Петром и Яковом Брюсом – известным книжником, точнее, чернокнижником, алхимиком, о чьем безверии и связи с дьяволом говорили многие современники. Стоя с царем возле рак святых, Брюс рассказывал Петру о причинах нетленности лежащих в них тел. Нартов пишет: «Но как Брюс относил сие к климату, к свойству земли, в которой прежде погребены были, к бальзамированию телес и к воздержанной жизни, и сухоядению или пощению (от слова „пост“. – Е. А.), то Петр Великий, приступя, наконец, к мощам святого Никиты, архиепископа Новгородского, открыл их, поднял их из раки, посадил, развел руки, паки сложив их, положил, потом спросил: „Что скажешь теперь, Яков Данилович? От чего сие происходит, что сгибы костей так движутся, яко бы у живого, и не разрушаются, и что вид лица, аки бы недавно скончавшегося?“ Граф Брюс, увидя чудо сие, весьма дивился и в изумлении отвечал: „Не знаю сего, а ведаю то, что Бог всемогущ и премудр“».
Может быть, Брюс действительно несколько растерялся и сразу не нашелся, что сказать Петру, который, согласно Нартову, при этом поучительно заметил: «Сему-то верю и я и вижу, что светские науки далеко еще отстают от таинственного познания величества творца, которого молю, да вразумит меня по духу».
Представим себе эту фантасмагорическую ситуацию, когда, стоя у переворошенной священной раки с сидящим в ней мертвецом, самодержец всероссийский и ученый генерал-фельдцейхмейстер ведут философскую беседу о пределах познания мира. И эта сцена поражает своей кощунственностью (ибо нельзя забывать, что происходит она не в Кунсткамере, а в одной из православных святынь, у нетленного праха святого, которому поклоняются поколения верующих) и одновременно тем, как точно она отражает лишенную мистики и суеверия веру Петра, основания которой он ищет как раз в бессилии науки объяснить явления, источником которых, следовательно, может быть, по мнению Петра, только Бог.
Примечательна и другая сторона «рационалистической» веры царя. Он явно идентифицировал понятие Бога, высшего существа, с роком, «некоей силой, управляющей нами», судьбой, бороться с которой бессмысленно. При этом он далек от христианского смирения. В письме грузинскому царю Арчилу II от 20 мая 1711 года, сообщая о смерти его сына Александра, он разворачивает свою аргументацию так: «Но что же может вам помощи в сем невозвратном уроне? Точию яко мужу разумну, представляем во отраду три вещи, то есть великодушие, разсуждение и терпение, ибо сия обида не от человека, которому б заплатить или отмстить можем, но от всемагучего Бога, которой сей непреходимый предел уставил».
Вообще создается впечатление, что строй мыслей Петра был далек от религиозного: события, которые он наблюдал и в которых участвовал, вызывали у него (в соответствии с языком культуры европейского XVII века – времени классицизма) не библейские, а античные образы, причем образность сравнений была не натужна, а естественна и точна. Так, в одном из писем с победного поля под Полтавой он сравнивает гибель шведской армии с гибелью возгордившегося и не управившегося с солнечной колесницей сына бога Солнца – Гелиоса Фаэтона, в другом – сравнивает уходящего от него противника с бегущей от преследователя нимфой Эхо.
Примечательны запомнившиеся царю сны, которые он сразу же записывал или приказывал записать своему секретарю. Они, отражая раскрепощенное сознание этого человека, ярко показывают особо символичный склад его мышления. Сны эти состоят как бы из блоков аллегорий, имевших широкое хождение в культуре того времени, и их можно было бы использовать как описание какого-либо праздничного фейерверка, аллегоричной групповой скульптуры, предназначенной для очередного календарного праздника: «1715 г., января с 28-го на 29-е число: будучи на Москве, в ночи видел сон: господин полковник (то есть сам Петр. – Е. А.) ходил на берегу, при реке большой и с ним три рыбака, и волновалася река, и большия прибивала волны. И идет волна, и назад отступала, и так били волны, что покрывало их. И назад отступала, а оне не отступили. И так меньше и уступила вода в старое состояние свое».
А вот сон 1723 года: «Его величество на 26-е число апреля видел сон: якобы орел сидел на дереве, а под него подлез или подполз какой зверь немалой наподобие каркадила или дракона, на которого орел тотчас бросился и с затылка у оного голову отъел, а имянно переел половину шеи и умертвил и потом, как много сошлось людей смотреть то, подполз такой же другой зверь, у которого тот же орел отъел и совсем голову и то яко бы было явно всем». Может ли кто из современных читателей вспомнить столь яркий аллегоричный сон? – охота кошки за мышами в счет нейдет.
Идея рационализма в полной мере распространялась и на государство, которое должно было в первую очередь подчиняться действию начал разума, логики, порядка. Петр, исходя из этих начал, жил, показывая пример служения, службы, и в соответствии с духом времени формулировал идею обязанностей монарха перед подданными. Особенно отчетливо это выразилось в манифесте о приглашении иностранцев на русскую службу от 16 апреля 1702 года. И хотя манифест остался неизвестен русскому современнику Петра и предназначался «на экспорт», идеи его примечательны для мировоззрения Петра. Вкратце они сводятся к следующему: Бог определил царя обладать землями и государством и «таким образом правительствовати, дабы всяк и каждый из наших верных подданных чювствовати мог, како наше единое намерение есть о их благосостоянии и приращении усердно пещися». Поэтому Петр считал своим первейшим долгом заботиться о безопасности государства, расширении торговли – главного источника благосостояния. Кроме этих дежурных для идеального монарха обязанностей Петр «ввернул» в манифест и самую близкую для него в то время идею коренного преобразования страны на европейских началах. Именно эту задачу «сочинения российского народа» он считал важнейшей, посвятив ее решению всего себя.
Но, восхищаясь столь редкой для правителя простотой, работоспособностью, целеустремленностью и самоотверженностью Петра, нельзя забывать при этом о двух принципиальных нюансах: во-первых, круг обязанностей монарха по «служению» народу определялся самим монархом и варьировался по его усмотрению, не будучи закрепленным в законодательстве; во-вторых, «служба» царя и служба его подданных существенно различались между собой. Ведь для последних служба государству, вне зависимости от их желания, сливалась со службой царю, шире – самодержавию. Иначе говоря, своим каждодневным трудом Петр показывал подданным пример, как нужно служить ему, российскому самодержцу. Не случайно он однажды произнес тост, так хорошо запомнившийся очевидцу: «Здравствуй (то есть „Да здравствует!“ – Е. А.) тот, кто любит Бога, меня и Отечество!» Другой мемуарист (англичанин Перри) подметил: «Царь обращает особенное внимание на то, чтобы его подданные сделались способными служить ему во всех этих делах. Для этой цели он не жалеет трудов и постоянно сам работает в среде этих людей…» Конечно, здесь не следует все упрощать. Да, служение Отечеству, России – важнейший элемент политической культуры петровского времени. Его питали известные традиции борьбы за независимость, за существование, немыслимое без национальной государственности. Но все же основной, определяющей была иная, идущая из древности традиция – отождествления власти и личности царя с государством. Апофеоз же этих идей наступил при Петре, что отразилось в полной мере в правовых нормах. В воинской присяге, утвержденной при Петре, нет понятия России, Отечества, земли, а есть только понятие «царя-государя», а само государство упоминается как «Его царского величества государство и земли». Но даже этих слов нет в присяге служащих, включенной в Генеральный регламент. Присяга давалась «своему природному и истинному царю и государю, всепресветлейшему и державнейшему Петру Первому, царю и Всероссийскому самодержцу и прочая, и прочая, и прочая». Затем шла клятва в верности «высоким законным наследникам, которые по изволению и самодержавной Его царского величества власти определены и впредь определяемы и к восприятию престола удостоены будут, и Ее величества государыне царице Екатерине Алексеевне верным, добрым и послушным рабом и подданным быть и все, к высокому его царского величества самодержавству, силе и власти принадлежащие права и прерогативы (или преимущества), узаконенные и впредь узаконяемые по крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять и в том живота своего в потребном случае не щадить». Вполне традиционная идея самодержавия получила при Петре новые импульсы, когда была предпринята попытка рационалистически обосновать абсолютную власть. Необходимость этого была обусловлена тем, что обществу петровского времени было уже недостаточно сознания богоданности царской власти как единственного аргумента для ее почитания. Нужны были иные, новые, убедительные, точнее – рационалистические принципы ее обоснования. Поэтому Феофан Прокопович ввел в русскую политическую культуру понятия, взятые у теории договорного права, согласно которому люди, чтобы не самоуничтожиться, должны были передать себя повелителю, обязанному их защищать, но взамен получавшему над ними полную власть, которая выразилась в образе разумного, видящего за далекие горизонты монарха – Отца Отечества, народа. В «Правде воли монаршей» Феофан доходит до парадоксального на первый взгляд, но логичного для системы патернализма вывода о том, что если государь всем своим подданным «Отец», то тем самым он «по высочайшей власти своей» и своему родному отцу «Отец».