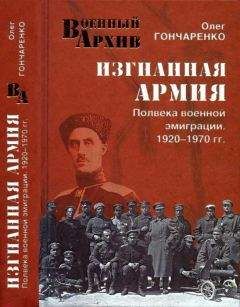Эмигрантские исследователи «февральской катастрофы» отмечали высшую точку ослабления непоколебимой преданности царскому престолу тех, чья общественная деятельность и род занятий как раз предполагал её.
Преданность подданных самодержцу некогда превратила раздробленные удельные княжества в могучее государство Российское, ибо царь являлся равнодействующей основной силой, точкой опоры всех сторон народной жизни.
В течение XIX века из сознания общества «выпала и потускнела эта преданность Царскому престолу… Одного царя заменяли другим, но никому и в голову не приходила мысль о возможности уничтожения или искажения самой царской власти. Все понимали, что без Престола невозможно существование русского народа и невозможна его нормальная жизнь… У нас в 1917 году наши сановные революционеры больше всего добивались именно того, чтобы был изменен строй государственной жизни, им ненавистно было Самодержавие, они хотели его заменить конституцией, а затем и республикой. Они были неудовлетворенны не столько личностью Государя, сколько ненавидели строй государственной жизни, выражаемый Самодержавием… Это был поистине заговор против души русского народа. Заговор блестяще удался, и осуществление его в жизни принесло нам то, что мы имеем сейчас»{155}.
Этот отрывок из статьи келейника митрополита Антония (Храповицкого) характеризует трагический общественный опыт, приведший с окончанием Гражданской войны в эмиграцию миллионы соотечественников.
Целый год беззащитная царская семья, претерпевая неслыханные оскорбления и лишения, находилась под охраной случайных людей: солдат, начальствующих над ними лиц, и была перемещаема без суда и следствия из одного узилища в другое. Попытки её освобождения были смехотворны, путались в бесконечных заседаниях и обсуждениях, время оттягивалось под предлогом нехватки денег. Армия, вернее, её первые добровольческие дружины, была брошена на подавление частностей. А те немногие части, преданные своему государю и готовые отправиться на его спасение в Сибирь, обманным путем были заверены старшими военачальниками в его полной безопасности и отвлечены в бессмысленных маневрах между Кубанью и Доном под невнятными лозунгами борьбы за демократию.
Полный политический коллапс и принимавшая угрожающий размах анархия и проникновение чужеродных элементов во власть собрали в рядах белых армий как приверженцев республиканского строя, так и поборников монархии, сплотившихся перед лицом единого врага, но это и предопределило в конечном счете само поражение Белого движения и последующую «эмиграцию несогласных». Если возврат к монархическим принципам гарантировал скорое восстановление порядка в стране, ибо базировался на веками проверенных практиках, то переход к республиканским формам грозил лишь усугублением смуты, в силу отсутствия достаточного опыта его апологетов в деле успешного восстановления государственной жизни. В рядах белых армий не оказалось численного перевеса сторонников парламентаризма, но много просто осторожных лиц, боявшихся повлиять поддержкой монархистов на отмену мифических «завоеваний революции». Эти люди, вопреки здравому смыслу, все еще находились под ложным впечатлением неких великих социальных преобразований, которые принесли две революции, и, будучи изгнанниками, инерционно продолжали верить, что и в их судьбах свержение традиционного строя сыграло некую освободительную роль. Иначе как гипнотическим помутнением сознания это состояние трудно назвать. Страх потерять неприобретенное или прослыть ретроградом, смущение от позднего прозрения — вот совокупность чувств многих людей, далеких в силу своей воинской службы или рода занятий от политики, составлявших множество единого организма эмиграции. Осознание утраты самодержавного строя, как стержня сильной русской цивилизации, и искреннее чувство собственной вины за попустительство врагам русской государственности частично возникнет в эмиграции лишь в 1930-е годы, и приобретет формы позднего раскаяния в мемуарах в начале 1960-х.
В первые месяцы и годы Великого исхода при изучении настроений военной эмиграции и духовенства, осознание вселенской катастрофы государства было присуще лишь единицам. Наиболее ярко это прослеживается в очерке очевидца, посвятившего свой рассказ попыткам немногих инициативных людей заказать панихиду в походном казачьем храме на греческом острове Лемнос. Лето 1921 года для многих изгнанников вольного Тихого Дона — время осмысления пройденного пути и нравственного выбора своей жизненной позиции. Очевидно, что бессмысленная, ориентированная на некие абстрактные формы благоустройства Отечества борьба не только не помогла победить захвативших власть интернационалистов, но и бесперспективна в дальнейшем. Нет ничего такого, чего бы уже не пообещали народу хитроумные большевистские политики и что могли бы противопоставить им поборники демократического лагеря. В том и ином случае народ чувствовал себя обманутым в своих лучших ожиданиях. А немногим прозревшим среди эмигрантов, в силу их невероятной малочисленности, не под силу было повернуть вспять закрученное большевиками колесо пропагандисткой лжи и дискредитации самодержавной идеи.
«На острове бугор, а на бугре маркиза-шатер. В нём церковь. Сюда лениво тянутся и медленно идут… Их мало. Не считают долгом чести русской почтить покойного Царя, Из тысяч беженцев здесь нет и сотни… Долго думали, судили: можно ли? Удобно ли здесь, на Лемносе, помолиться за убиенного Царя? И сильно сомневались, не будет ли неделикатно объявить о панихиде по лагерям? Пугливо озираясь, пророчили, что “Мало ли что может быть? Ведь политическое дело тонко”»{156}…
Напомним, что дело происходило не на тайном собрании в центре большевисткой столицы, под носом вездесущего ЧК, а в центре временного расселения на далёком греческом острове, находившемся в ведении британской колониальной администрации, наиболее консервативного сословия бывшей Империи — казачества. Той ударной части Русской армии — последнего резерва белых армий Юга, предпочитавших изгнание на неопределенный срок мирному сосуществованию с разрушителями своего Отечества.
«Решили сделать дело тихо, посемейному… Робко заявили коменданту, и друг через друга оповестили своих… Инициаторы пошли сначала за разрешением к коменданты (ген. Ф.Ф. Абрамову. — Примеч. авт.). Маститый старец, полный генерал с двумя Георгиями. Русский воин, увенчанный наградой Государя, — он брал когда-то Эрзерум… Он разрешает: “Если хотите, молитесь за гражданина Николая!” Идут к епископу. Благообразное лицо. Не старый. Изгнанник на Лемносе. Десятки лет отец духовный поминал в богослужении благочестивого Царя, и величаво возглашал Самодержцу долголетие. На проповедях говорил о Вере, О Царе, Отечестве…
— Что? Панихида? По Царю? Постойте! Дело не так просто. И думает: “Что скажут партии? Эсэры? Кто победит?” Вслух: — Нет, я разрешить молиться за Государя не могу! Вдруг спохватился пастырь: — Да впрочем, официально неизвестно, убит ли Царь! А если жив? Нет—неудобно… Ну, знаете, я не могу: поговорите с отцом Георгием (Шавельским. — Примеч. авт.). Как хочет, а я умываю руки. Идут к священнику. Модный проповедник. Громит порок и разгильдяйство. Требует от паствы долга, служения родине: он не откажет. Сухопарый, некрасивый человек с лицом аскета. — Гм… Не того… Гм… За Царя? Подернулось суровое лицо брезгливой судорогой. Недовольство овладело на миг обыкновенно послушной мимикой… — Но позвольте: Он не Царь! Он “бывший”! Служить нельзя! …Забыл ораторствующий поп, что сам он “бывший”, что вместе с Царем низвергнут “именем народа”… — Ну, ладно, отстуду, но только не за Царя, а за Николая, и это помните… Пришли к палатке-церкви отдать честь Родине в лице почившего Царя. Все больше старики, в погонах, с орденами. Здесь были бойцы Императорской армии, два-три чиновника. Немного женщин. Пришли оплакивать Россию… Было в храме тихо и мрачно. А те, кто понимал всю низость происходившего <дела>, шептали: “Вот подлость человека!” Вот вышел служитель храма. И полилось из уст его — не речь, не слово. Неуклюже торчала золотая риза на угловатых плечах. В порывистых движениях сжимали руки крест святой и злобно искривлялось суровое лицо… Дерзко кощунствуя, священник надругался над Тем, кому еще недавно перед Богом возносил хвалу и славу. Слуга Царя Небесного так поносил Царя земного… — Не Царь, а “бывший”! Не Государь, а раб Божий Николай! Кто чтит Царя — уйдите вон! Так подлый раб смердящим словом жалил душу! Молчат седые генералы. Смущен взор женщин. — Он должен так говорить из соображений политики. Иначе не позволяли служить, — пытаются оправдать поклонники аскета… Отслужил панихиду не по Царю, а по безымянном Николае. Окончилось. Все разошлись и словно шапку-невидимку надели на то, что видеть было стыдно»{157}.