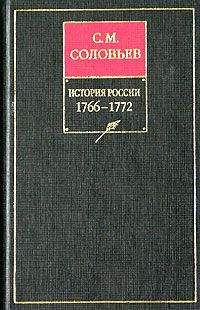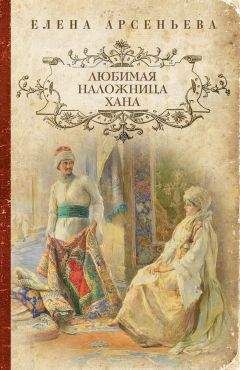Сапега прервал разговор, пошел к королю, а Луговскому велел дожидаться. Пришедши от короля, он взял Томилу в особую комнату и говорил ему наедине: „Я хочу тебе всякого добра, только ты меня послушай и сослужи государю прямую службу, а его величество наградит тебя всем, чего только захочешь; я, надеясь на тебя, уже уверил государя, что ты его послушаешь. Смольняне требуют, чтоб к ним прислали кого-нибудь из вас, послов, сказать им, что надобно делать? Они вас послушают и государеву волю исполнят. Так, Василий Сукин готов, ждет тебя, ступайте с ним вместе под Смоленск и скажите жителям, чтоб целовали крест королю и королевичу или впустили бы королевских людей в Смоленск“. Луговской отвечал: „Сделать мне этого никак нельзя. Присланы от патриарха, бояр и от всех людей Московского государства митрополит Филарет да боярин князь Василий Васильевич Голицын с товарищами, а мне без их совета не только что делать, и помыслить ничего нельзя. Как мне это сделать и вечную клятву на себя навести? Не только господь бог и люди Московского государства мне за это не потерпят, и земля меня не понесет. Я прислан от Московского государства в челобитчиках, и мне первому соблазн ввести? По Христову слову, лучше навязать на себя камень и вринуться в море. Да и государеву делу в том прибыли не будет. Знаю я подлинно, что под Смоленск и лучше меня подъезжали и королевскую милость сказывали, да они и тех не послушали, а если мы теперь поедем и объявится в нас ложь, то они вперед еще крепче будут и никого уже слушать не станут. Надобно, чтоб мы с ними повольно все съезжались, а не под стеною за приставом говорили: это они уже все знают“. Сапега продолжал прежнее: „Ты только поезжай и себя им объяви, а говорить с ними станет Сукин, ехать бы тебе, не упрямиться и королевского жалованья себе похотеть“. Луговской отвечал: „Государскому жалованью я рад и служить государю готов в том, что мне можно сделать, а чего мне сделать нельзя, в том бы королевское величество опалы своей на меня не положил, а этого мне никак сделать нельзя, чтоб под город ехать своевольно, да и Сукину ехать непригоже, от бога ему это так не пройдет“. Этим разговор кончился, Сапега поехал к королю, а Луговской возвратился к себе в стан и рассказал все старшим послам.
Филарет и Голицын на другой день призвали к себе Сукина, Сыдавного, спасского архимандрита и говорили им, чтоб они попомнили бога и свои души, вспомнили бы, как отпущены из соборного храма Пречистой богородицы, как благословлял их патриарх. Сукин с товарищами отвечали: „Послал нас король с своими листами в Москву для своего государского дела, и нам как не ехать?“ Эти люди говорили прямо, но келарь Палицын схитрил и тут: он не хотел иметь неловких для себя объяснений с митрополитом, не поехал к нему под предлогом болезни, которая, однако, не помешала ему отправиться в Москву. 43 человека покинули, таким образом, стан посольский. Захар Ляпунов также покинул послов, но в Москву не поехал, а перешел в польский стан: он ежедневно пировал у панов, забавлял их насмешками над послами и утверждал, что старшие послы все делают сами собою, не спрашиваются с дворянами, все таят от них. В последних словах мы видим причину, почему Ляпунов покинул послов. Филарет и Голицын объявили панам, что приезд Сукина с товарищами в Москву произведет смуту и всему делу поруху. Но дело рушилось уже и без этого. Мы видели, что бояре и вообще лучшие люди, боясь вора и его приверженцев, крепко держались за Владислава, что по их желанию поляки были введены в Москву. Больше всех приверженностию к Владиславу отличался первый боярин, князь Федор Иванович Мстиславский; еще в начале августа 1610 года Сигизмунд прислал Мстиславскому и товарищам его похвальную грамоту, в которой прямо сказано о давней приверженности Мстиславского к королю и королевичу: „И о прежнем твоем к нам раденьи и приязни бояре и думные люди сказывали: это у нас и у сына нашего в доброй памяти, дружбу твою и раденье мы и сын наш сделаем памятными перед всеми людьми, в государской милости и чести учинит тебя сын наш, по твоему отечеству и достоинству, выше всех братьи твоей, бояр“. Мстиславский не усумнился принять звание конюшего из смоленского стана. Другой боярин, Федор Иванович Шереметев, писал униженное письмо ко Льву Сапеге, чтоб тот смиловался, бил челом королю и королевичу об его вотчинных деревнишках; 21 сентября (н. с.) 1610 года Сигизмунд прислал боярам грамоту, в которой приказывал вознаградить Михайлу Салтыкова с товарищами за то, что они первые приехали из Тушина к королю и присягнули ему; вознаграждение должно было состоять в возвращении движимого и недвижимого имения, отобранного Шуйским в казну за измену. В этой грамоте о королевиче ни слова. Сигизмунд прямо говорит, что Салтыков с товарищами приехали „к нашему королевскому величеству, стали служить прежде всех и били нам челом, чтоб мы их пожаловали, верных подданных наших, за их к нам верную службу“. Михайле Глебовичу была пожалована волость Чаронда, которая была прежде за Дмитрием Годуновым, а потом за князем Скопиным, волость Тотьма, на Костроме, Красное село и Решма; сыну Салтыкова Ивану Михайловичу дана волость Вага, которая была прежде за Борисом Годуновым, а потом за Дмитрием Шуйским. Многие челобитчики отправились сами к королю в стан смоленский: до нас дошло множество листов или грамот Сигизмундовых, жалованных разным людям на поместья, звания, должности; все эти грамоты написаны от имени Сигизмунда; везде употребляются выражения: боярам нашим, мы пожаловали, велели. В числе челобитчиков была и царица Марфа, о которой король писал боярам: „Присылала к нам богомолица наша инока Марфа, блаженной памяти великого господаря Ивана Васильевича господарыня, бьючи челом, что князь Василий Шуйский, будучи на великом господарстве Московском, ограбил ее, отнял то, чем пожаловал ее великий князь Иван Васильевич, а велел кормить с дворца скудною пищею; которые люди живут у нее, тем жалованья денежного и хлебного не дают, она ныне во всем обнищала и одолжала. Вы б велели ей и людям ее давать жалованье, как обыкновенно на Москве держат господарских жен, которые в черницы постригаются“. Поднялись и все опальные предшествовавшего царствования: Василий Яковлевич Щелкалов выхлопотал привилей на поместье и вотчину; Афанасий Власьев бил челом, чтоб отдали ему назад двор и имение, отобранные Шуйским; известный нам благовещенский протопоп Терентий выпросил, чтоб определили его опять к Благовещенью. Но грамоты от имени короля писались только к боярам в Москву, грамоты же по городам писались от одного Владислава. Таким образом, временное правительство московское, Дума боярская, молча согласилась признать короля правителем до приезда Владиславова; по всем вероятностям, бояре, или по крайней мере большая часть их, этим и ограничивались; не ограничивался этим Михайла Глебович Салтыков, который прямо вел дело к тому, чтоб царем был провозглашен не Владислав, а Сигизмунд. Но одного Салтыкова было мало, и потому в смоленском стане признали полезным принять услуги и другого рода людей, именно тех тушинцев, которые готовы были на все, чтоб только выйти из толпы, которые, заключая договор под Смоленском, выговорили, чтоб будущее правительство возвышало людей низкого происхождения по их заслугам. В челе этих людей по способностям и энергии был Федор Андронов, о котором известно только то, что он был купец-кожевник, обратил на себя внимание Годунова (чернокнижеством, как уверяли враги Андронова), переведен был из Погорелого Городища в Москву; потом, во время Смут, видим его в Тушине и под Смоленском. Здесь он умел приблизиться к королю или его советникам до такой степени, что Сигизмунд послал его в Москву в звании думного дворянина, хотя можно думать, что он это звание получил еще в Тушине. В конце октября 1610 года король писал боярам: „Федор Андронов нам и сыну нашему верою и правдою служил и до сих пор служит, и мы за такую службу хотим его жаловать, приказываем вам, чтоб вы ему велели быть в товарищах с казначеем нашим Васильем Петровичем Головиным“. Андронов продолжал служить верою и правдою королю. Все требования Гонсевского он исполнял беспрекословно, если только не предупреждал их: лучшие вещи из казны царской были отобраны и отосланы к королю, некоторые взял себе Гонсевский. Для прилики Гонсевский велел переписать казну боярам и печати свои приложить, но когда потом бояре пришли в казну, то уже печатей своих не нашли, нашли только печать Андронова, они спросили его, что это значит? Андронов отвечал, что Гонсевский велел распечатать. По словам поляков, были в казне царской литые золотые изображения спасителя и двенадцати апостолов; последние еще Шуйский перелил в деньги для уплаты шведским наемникам; полякам Гонсевского досталось только изображение спасителя, оцененное в 30000 червонных; некоторые хотели было отослать его в краковский костел, но жадность большинства превозмогла и священное изображение было разбито на куски. Андронов не довольствовался казначейскими распоряжениями, хотел служить и другие службы королю; по приезде своем в Москву он писал Льву Сапеге, оправдывая Жолкевского в уступке требованиям москвитян: „Если б не учинить тех договоров по их воле, – писал Андронов, – то, конечно, пришлось бы доставать саблею и огнем. Пан гетман рассудил, что лучше теперь обойтись с ними по их штукам; а когда приберем их к рукам, тогда и штуки их эти мало помогут; надеемся на бога, что со временем все их штуки уничтожим и умысел их на иную сторону обратим, на правдивую“. Андронов пишет о необходимости держать под Москвою отряд польского войска, в котором ни один человек не должен выезжать из стану, но все каждую минуту должны быть готовы на случай восстания; а они, слуги королевской милости, Андронов с товарищами, будут держать при себе несколько тысяч стрельцов и козаков. Андронов предлагает также выгнать из приказов людей, оставшихся здесь от прежнего царствования, похлебцов Шуйского, как он выражается, и места их занять людьми, преданными королю: „Надобно, – пишет он, – немедленно указ прислать, что делать с теми, которые тут были при Шуйском и больше дурили, чем сам Шуйский“. Список этих людей, вероятно составленный Андроновым, дошел до нас в отрывках; некоторые указания любопытны, например: „Дьяк Григорий Елизаров сидел в Новгородской четверти“ сам еретик и еретики ему приказаны (не забудем, что Андронова также обвиняли в чернокнижии); дьяк Смолянин, сын боярский, бывал; Михайла Бегичев, а дьячество ему дано за шептанье; дьяки дворцовые: Филипп да Анфиноген Федоровы дети Голенищева – злые шептуны». Предложение Андронова было приведено в исполнение: товарищи его по Тушину и смоленскому стану были посажены по приказам: Степан Соловецкий сел думным дьяком в Новгородской четверти, Василий Юрьев – у денежных сборов, Евдоким Витовтов – в разряде первым думным дьяком, Иван Грамотин – печатником, посольским и поместным дьяком; в Большом приходе – князь Федор Мещерский; в Пушкарском приказе – князь Юрий Хворостинин; в Панском приказе – Михайла Молчанов; в Казанском дворце – Иван Салтыков.