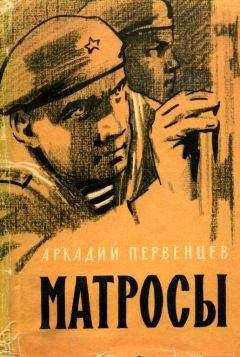Прикрывшись от ветра брезентом, полулежа на мягкой ячменной соломе, покуривая табачок, Забрудский многое дополнил к личным наблюдениям из откровенного разговора со своим попутчиком: настроение крестьян улучшалось, люди принялись за работу, Демус вел твердую линию, пресекал всякие насмешки над колхозом, гонял лодырей.
- Теперь кабанов не колет для бандеровцев?
- Не заявляются они, пригасли пока...
- Як я тебя понял, Петро, полонили мы Демуса доверием? - допытывался Забрудский, любивший до конца выстраивать линию своих наблюдений.
- Да, товарищ Забрудский.
- Не повернет к ним?
- В душу не подивишься, а снаружи, понимаю так, не повернет. Ни повороту, ни заднего ходу... Жинка его и та стоит твердо.
- А за тебя що балакают, Петро?
- Откуда я знаю? В очи не кажуть, а що за спиной - не бачу, кривой...
В город приехали перед наступлением сумерек, когда недавно закатившееся солнце оставило на крышах и трубах свои блекнувшие отсветы, тени ложились на землю и кое-где зажглись ранние фонари. Стоявший на взгорке костел с прямыми высокими стенами чернел с восточной стороны, и только на западной еще теплились оконца, слабо вспыхивая, будто слюдяные переливы уходящего солнца.
Ганна медленно подняла голову, посматривая на последние блики еще одного угасшего дня, вздохнула и робко, украдкой, перекрестилась: добрые васильковые глаза будто изменили цвет, похолодели.
А в это время в кузове, заваленном металлическими деталями машин, отправленных для ремонта, назябшись под плотным, пахнущим соляркой брезентом, между двумя мужчинами решался вопрос о месте ночлега. Ухналь как бы мимоходом пытался выяснить причину вызова его в район. У него не было уверенности в добрых намерениях начальства. Самое правильное, на его взгляд, - это подальше держаться от него, и век бы ему, Ухналю, не бывать в этом городке, с которым связаны постыдные воспоминания. Сюда привела его петляющая тропка, здесь с треском хряснула его жизнь, переломилась надвое, здесь он изменил своей клятву и, переступив порог, теперь никак не осмеливался сделать следующий шаг; смутна его душа, трудно повинуются онемевшие ноги.
Забрудский и слушать его не стал: ясное дело - ехать только к нему. "Где тут, в Богатине, корчма, постоялый двор, что же он, Забрудский, будет за человек, если не ответит добром на оказанное ему гостеприимство!" Вот эта настойчивость окончательно расстроила Ухналя: привезут в силок, заставят самого сунуть лапу, потом поди выдерни... Вновь заговорил в нем очеретовский боевик, смешались мысли, застучала кровь в висках. Перекинуться словом не с кем, Ганна - в кабине, через тонкую стенку, в запыленное окошечко видна то спина ее, то платок... Забрудский категорически отверг просьбу высадить их у Марии Ивановны, проехали одну, другую улицу и затормозили возле четырехэтажного дома из красного кирпича.
Спрыгнув первым на хрустнувший под ногами гравий, Забрудский открыл дверцу кабины и, предложив руку, помог застеснявшейся Ганне.
- Де ж мы... Куда мы? - Она огляделась, поправила платок, открыла лоб. - Ты же казав, к Марии Ивановне, Петро?
- Ось тут и Мария Ивановна... - Ухналь ухмыльнулся, перекинул через плечо захваченный из дому оклунок с провизией.
Непривычной для Ухналя была обстановка коммунального дома, как назвал его Забрудский, пошедший впереди них. Ухналь родился в крестьянской избе, потом - лес, подземные казематы и селянские хижины... Что он видел? Повалюха, Крайний Кут, Буки, пробирался когда-то окраиной Мукачева, проскакал Дрогобыч, везде без задержки, чтобы снова юркнуть, как ящерка, в подземную пору. Его слепила обычная электрическая лампа, приучил себя к каганцу, к тусклому свету подполья. Ухналь осторожно цеплялся за перила, пересчитывал по привычке ступеньки, примечал двери цвета палой листвы и ясные таблички номеров на них, сторонился спускавшихся по лестнице людей, хотя они не обращали на него внимания. Ганна понимала его состояние и, улучив минуту, тихо шепнула: "Нельзя так... Ты як тигра... Чого ты засумував?"
Ничего не ответил Ухналь, только удивился ее чуткости, подтолкнул плечом вперед к освещенному проему раскрытой двери, где их встретила приветливая молодая женщина, в платье с широкими, ниспадающими от плеч рукавами, в алых суконных туфельках. Ухналь заметил ровный цвет щек горожанки, белые руки и твердо выраженный "москальский" выговор, что когда-то вызывало у него гнев. Хозяйка пожала им руки, требовательно протянув свою, категорически запретила снимать обувь, хотя полы были натерты и блестели, как лед.
Пока не пахло засидкой. Никого, кроме хозяйки, не было. В соседней комнате засыпала девочка, оттуда слышался ее голосок. Хозяин не звонил по телефону, никого не извещал о приезде, что тоже служило хорошим признаком. Оружие свое он отнес в спальню, вернулся в домашнем виде и тут же предложил Ухналю и Ганне привести себя в порядок после дороги. Ухналь долго отмывал заскорузлые руки, но ничего поделать с ними не мог - ни со шрамами, затянутыми черной пленкой, ни с нагаром масла, плотно впитавшимся в кожу. Он вышел из умывальной к накрытому столу, на котором все было внатруску, больше посуды, чем харча. Но это не беда, не утопали, видать, хозяева в достатке и роскоши, как думалось ему, Ухналю, прежде.
- Мы маем две комнаты, больше нам не треба, - объяснил Забрудский. Нас всего трое. Дружина моя була на фронте, кончала Краснознаменное училище в Москве, она ще молода, котлеты, вареники может, а вот борщ... Не доверяю ей борщ. Беру свой фартук... - Забрудский старался снять натянутость, стеснение, отсюда и возникала излишняя суетливость, которая снова возрождала погасшие было подозрения Ухналя.
Когда хозяин завел разговор насчет борща и вареников, Ухналь подморгнул Ганне, и та бросилась в прихожую, к оставленному там оклунку.
- Э, нет! - запротестовал Забрудский. - Обижаете хозяйку. У нее еще будет кое-что. Городские, сами знаете, не всю еду выставляют сразу...
- Мы маем таке сало, - пробовала уговорить Ганна. - Правда, ще не со своего кабанчика, а сало на три пальца...
- Сало? - Забрудский ушел на кухню, вернулся оттуда с куском сала. А це шо? - Он нарезал. - Угощайтесь! Ось вам городское сало.
- Да ну? - Ухналь потянулся, взял кусок. - Добре сало!
Хозяин налил еще по чарке, постепенно уходила натянутость и настороженность.
- Отпустило моего, Евгения Яковлевна, - нашептывала Ганна жене Забрудского. - И це не от горилки, а от вашей доброты... - Она признательно провела пальцами по руке хозяйки. - Послухайте моего Петра, вин весь в колгоспи, як завинченный, день послухать - год треба робыть по его предложениям...
- Мой муж понимает это отлично, Ганнушка. Посмотрите, как они увлеклись разговором... Пускай своим занимаются, а мы побеседуем по нашим женским делам. Как вы устроились, Ганнушка? Нет, нет историю свою мне не рассказывайте, я все знаю, и возвращаться к прошлому не будем...
- Так, так, - теребил Забрудский Ухналя, - вы можете без всякого стеснения размовлять со мной, Петро. Нам, партийным керивныкам, треба все знать из первых рук, чув таке выражение - держать руку на пульсе. А де пульс? На бумагах пульса нема, Петро. Бумаги без пульса...
Ухналь шел в райком. Не верилось ему, что забыты его прегрешения и не последует за них наказания. Много было случаев, когда забирали вышедших на амнистию не сразу, а после длительной проверки. И если тянуло на тюрьму, значит, тянуло.
Будто чужие ноги вынесли его на второй этаж, никогда так не случалось, а теперь захватило дыхание возле таинственных дверей с надписью под стеклышком, привинченным двумя шурупами.
В этом году, после разгрома Луня, в штабном бункере обсуждался план вооруженного нападения на Богатинский райком, отдел МГБ и контору Госбанка. Акция намечалась лихая, с налета, перед зорькой. Операцию уточнял Гнида по чертежу, прибитому гвоздочками на той стенке схрона, которую важно именовали оперативной. Как будто все было вчера, Ухналь вспоминал до мельчайших деталей сцену совещания, важные позы зверхныков, освещенных каганцами с бараньим жиром, вкрадчивый голосок Гниды, проникающий до самых печенок, его тонкий нос с чуткими, как у кота, ноздрями, пальцы, любовно оглаживавшие парусину, на которой возникали кружочки и линия. Тогда начальником пограничного отряда был Пустовойт. Назначение Бахтина, усиление режима, введение контрольных постов заставили куренного отложить акцию на неопределенное время. Ухналь хорошо помнил, как ему поручалось во главе тройки боевиков наблюдение за улицей и ближним переулком, ведущими к райкому. В его задачу входило отсечь пулеметным огнем тех, кто придет на выручку. Сюда, в этот самый кабинет, должен был ворваться сам Бугай и взять Ткаченко живым, чтобы потом страшной казнью казнить его в лесу, разодрать пополам, привязав к макушкам двух деревьев. Ухналь встряхнул головой, прогоняя жуткие воспоминания. Думал ли он тогда, что будет подниматься по этим ступенькам вот так, как поднимается сегодня?.. Все она - Канарейка. Не стань тогда она на его пути, заховали бы давно в могилу жену Бахтина, а может, и его скелет валялся бы в горной щели.