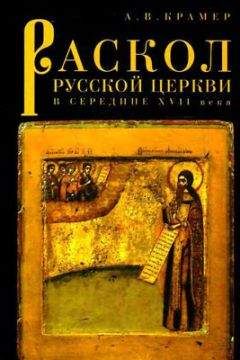Эта тема — старообрядчество и крепостное право — настолько интересна, что я не могу не отвлечься и не сказать об этом хоть несколько фраз. «С падением крепостного права обстоятельства для старообрядчества складывались необыкновенно благоприятно. Ранее крестьянство не всегда осмеливалось уходить в раскол, так как за православным священником стоял барин. <…> Реформа 1861 г. разорвала формальную связь между крестьянином и помещиком и развязала крестьянству руки. Долго искусственно сдерживаемый поток покатился с неудержимой силой, приводя в ужас наблюдателей раскола. <Это — неточность или преувеличение, а вот духовенство синодальной Церкви, действительно, было в ужасе>. По официальной статистике, в середине 60-х годов в Симбирской губернии обратилось в раскол разом более 25 000 человек; в 1867 г. перешла в раскол половина жителей города Петровска Саратовской губернии — всего около 5000 человек, в том же году перешли в раскол 3000 человек из жителей села Богородского Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Целыми тысячами переходили в раскол крестьяне Тверской губернии (1865 г.). В 70-х годах поголовно перешло в раскол селоКряжим Вольского уезда Саратовской губернии (1600 человек); жители деревень Губинская и Язвиши Покровского уезда Владимирской губернии также приняли попов от Белокриницкой иерархии. В 1879 г. пожелали перейти в раскол 8000 человек из Пермской и Оренбургской губерний не только православных, но и язычников и магометан. В суздальском уезде Владимирской губернии, в Верейском уезде Московской губернии, в Нижегородском уезде начиная с 60-х годов раскол растет настолько быстро, что все население к концу 70-х годов делится почти поровну между православием и расколом. Такие же известия сообщались в 60-х и 70-х годах из Костромской губернии, где отдельные села, до 1861 г. бывшие поголовно православными, после 1861 г. поголовно переходили в раскол.
Эти массовые переходы объясняются не только тем, что, в сущности, добрая половина отпавших уже ранее тайно придерживались раскола. <…> Крестьянин избавляется в лице православного священника от одного из многих агентов правительственной власти, тяготевших над его судьбой и достоянием. Из данника своего прихода он становился участником в решении его дел» [111, с. 399–400].
Старообрядчество — самый пассивный и тяжеловесный, но и самый массивный и тяжеловесный противник крепостничества — положив «свою массу» (организованную и возглавленную промышленниками и заводчиками) на весы, невидимо победило крепостничество в 1861 г., и, вероятно, видимо и явно победило бы вследствие этого государственную Церковь в XX в., тем более видимо и тем более явно, что эта его вероятная победа облегчалась наличием либеральных законов, доступной для него Думы и своей прессы. Этому помешало то, что только и могло в 1917 г. помешать — крушение христианской монархии и всяческого либерализма, и диктатура атеистов. Позднее этому могло бы помешать и другое — внутреннее перерождение старообрядчества под влиянием новых, небывалых ранее в России условий жизни — либеральных и легких. Но этого не случилось, а рассуждать о том, было бы такое перерождение, или не было бы, если бы не революция 1917 г. — не стоит.
Если бы не атеистическая революция 1917 г. с ее раскулачиваниями и экспроприациями, процессы развития старообрядческой промышленности и перехода крестьян в старообрядчество продолжались бы, и имели бы значительные, но труднопредсказуемые последствия как для русской экономики (и, следовательно, для всей России во всех аспектах), так и для самих старообрядцев, их психологии и быта. Кроме того, независимо от экономии (а при активно развивающейся старообрядческой экономике — тем более) имело бы место массовое возвращение старообрядцев — эмигрантов и их потомков из-за рубежей России и массовое же «втягивание» как их, так и остававшихся на родине, в активную общественную жизнь. Трудно представить себе, как все это сосуществовало бы с государственной «никонианской» Церковью, «православной» монархией и Святейшим Синодом. Но было не это, а то, что было.
Имп. Николай I направил, естественно, свой главный удар на руководителей поповцев (в основном, поповцы были купцами и промышленниками), то есть, на старообрядческое духовенство; в результате к середине XIX в. поповцы остались почти без попов, и «множество поповцев действительно перешло в беспоповские согласия, и 1832–1848 гг. стали годами быстрого роста беспоповских и радикальных толков старообрядчества. Некоторые принимали единоверие, но без энтузиазма, по необходимости, и часто снова отпадали потом <то есть после 1881 г.> в раскол» [25, с. 456]. Многие поповцы становились в то время беспоповцами не только потому, что лишились попов, но и потому, что поняли ужесточение правительственных репрессий, как явный признак окончательного господства Антихриста, которое всегда было существенной частью вероучения беспоповцев.
Трезвость, богатство и деловитость старообрядцев-поповцев помогли им не только выжить в страшную для них эпоху импп. Николая I и Александра II, но и иметь, все же, несколько священников. Некоторые из священников, переходящих к старообрядцам-поповцам из «никонианской» Церкви (следовательно, в ту эпоху — на нелегальное положение), вероятно, не решились бы на это смертельно опасное дело без немалого вознаграждения (что, конечно, не исключает их искренней убежденности в правильности и превосходстве старых обрядов). Укорить их за это невозможно: ведь в случае разоблачения и поимки им была гарантирована пожизненная тюрьма в монастырском подвале (как и бывало — см. с. 289), а полученное от старообрядцев вознаграждение нередко шло, вероятно, на пропитание их многочисленных детей и родственников-иждивенцев, которые были часто основным их имуществом, и прокормить которых в обычных условиях бедные новообрядческие деревенские священники, как правило, не могли. Бедность, почти нищета многих православных деревенских священников (не получавших какого-либо жалования от консистории или государства, но только плату от прихожан за требы) и, тем более, дьячков отмечена неоднократно и ими самими, и посторонними наблюдателями и не подлежит сомнению; следует отметить, что такая бедность возможна только при недостатке уважения и сочувствия крестьян к своему приходскому причту, и этот недостаток уважения и сочувствия (естественно, нередко приводивший к конфликтам) тоже не раз отмечался. «В сельском быту священник стонал под ярмом крестьянской работы, зачастую обрабатывал свой надел с той же страдой и с теми же мизерными результатами, как и его прихожанин крестьянин. Ярмо земледельческой страды сопровождалось вечной гоньбой за медным крестьянским пятаком, постоянным заискиванием перед помещиком, становым и деревенским кулаком, страхом перед благочинным и горькими слезами о тех грошах, какие приходилось отдавать в бездонный архиерейский карман. При таких условиях совершение культа становилось для сельского клира попросту формальной службой, а прихожанин был прежде всего платящим клиентом, вынужденным обращаться к священнику в определенных случаях: для крестин, венчания, похорон, молебнов от засухи и от ненастья и т. п.» [111, с. 486].
Какой контраст с положением старообрядческого священника или беспоповскаго наставника! — я не слышал и не читал о хотя бы одном бедствующем старообрядческом клирике, а семьи и у них были не маленькие, и казенной зарплаты и они не имели. Думаю, что уважение крестьян или мещан — старообрядцев к своему священнику, ходящему, вместе с многочисленной семьей, по грани ареста и высылки «за веру», было вполне заслуженным.
Здесь важно отметить и выборность приходского духовенства, сохранившуюся у старообрядцев (в отличие от «никонианской» Церкви) доныне и бывшую, вероятно, одной из причин их жизнестойкости; выбирали вернейших и надежнейших, иногда даже и в ущерб грамотности, что вполне естественно при отсутствии до 1905 г. старообрядческих духовных (как и любых других) школ. (Дети старообрядцев, естественно, не учились в воскресных школах, где закон Божий преподавали приходские «никонианские» священнослужители). Эта выборность требовала, в свою очередь, от выбиравших (то есть от всех мужчин) трезвости и рассудительности, и создавала особо доверительные отношения между священником и прихожанами. Выбиравшие понимали и учитывали, конечно, что если их избранник будет замечен в чем-либо предосудительном (с обеих точек зрения — и христианской нравственности, и государственного закона), это почти наверняка поведет к скандалу, станет известным всей России через синодальную прессу и принесет вред всему старообрядчеству. Эта выборность (как и любая выборность и, вообще, любая демократическая процедура) имела, разумеется, и негативную сторону (обсуждать это было бы здесь неуместно), но перечисленные позитивы были для выживания старообрядчества важнее.