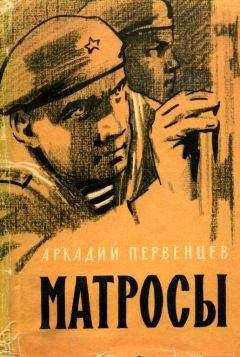К дому вела проселочная дорога. Она петляла по темным лесам, с шумными верхушками деревьев и крупным инеем, сухо посыпавшим темную ленту проселка, бежала по логам и горбатинам. За окнами продолжалась тревожная жизнь, урчали и затихали двигатели, по-видимому, сменялись подвижные патрули.
- Ночь прямо-таки разбойничья, - генерал приоткрыл штору, - слышишь, как сосны шумят? Верховой ветер идет, чудное явление природы. Советую переночевать, а жинке позвоним, беру на себя ее успокоить. А то, помнишь, как от моего имени появился у тебя Лунь?
- Помню, еще бы забыть...
- Остаешься, Павел Иванович?
- Спасибо, все же хочу вернуться.
- Как хочешь, неволить не стану. - Генерал закашлялся, отпил молока.
Ткаченко проверил наган, покатал барабан на ладони.
Генерал с усмешкой поглядел на наган.
- Не тот калибр, Ткаченко. Если выпрыгнут лесовики, этой пукалкой не отобьешься. Опять сопровождение выделю...
- Зачем? Спокойно сюда доехали.
- Береженого бог бережет. - Генерал распорядился об охране. - Тут действует устав нашего монастыря. Забыл времечко, когда караваном ездили?
- Пора забывать, Семен Титович.
- Рановато. Вчера двух мотострелков убили, бензозаправщик сожгли, только шофер сумел убежать, хотя и обгорел здорово, доложил о трагедии... Парням-то было всего по девятнадцать. Потому яростно закончу с бандитами! Народ стонет от них. Пора кончать!
На этом расстались генерал и секретарь райкома. В том, что "пора кончать", разногласий у них не было, жизнь требовала одного: браться за мирное строительство, браться вовсю, и смертельно надоело Ткаченко катать наган на ладони, оглядываться по сторонам, с тревогой раскрывать ежедневные сводки, нередко окропленные кровью.
Глава десятая
Зима началась мягкими метелями. Замело дороги, сровняло контрольно-следовую полосу, отрезало горные села. Участились случаи нападения небольших бандеровских банд: голодная зима выгнала их из берлог, из схронов. Но почти везде от них успешно отбивались сами селяне, организованные в добровольные отряды самообороны. Нападали и на село Буки. Председатель сельсовета Марчук прислал с нарочным сообщение: хвалил Ухналя - Петра Шамрая за храбрость, хотя в стычке с бандеровцами пришлось орудовать ему обычной трехлинейной винтовкой.
Метели продолжались почти две недели. Устя в эти дни вставала рано, принималась расчищать дорожку. В полушубке, валенках, повязанную до бровей полушалком, такой ее не раз видели возвращавшиеся с ночной службы Зацепа и Стрелкин.
- На кубометры работаете, Устя? - спрашивал Зацепа, вглядываясь в ее краснощекое лицо.
- А що? Вам завидно? - отвечала весело Устя. - Чего Жорик мой задержуется? Завсегда задних пасет? Що вы на нем катаетесь?
- Покатаешься на нем, на твоем Жорике. Брыкливый!
- А що, то хорошо чи плохо?
Обменявшись такими фразами, Зацепа и Стрелкин, по пояс увязая в сугробах, пробирались к своему жилью и, следуя примеру Усти, тут же брались за лопаты.
Устю на заставе любили. Она пришлась, как говорится, ко двору. Ее можно было встретить и на кухне, где, отстранив повара, она принималась по-своему заправлять борщ, и бойцы не могли нахвалиться ее искусством. Бывала она и на швальне и на конюшне и там давала нагоняи дневальным. Ее конек был отправлен в Скумырду, и на нем теперь ездил Грицько, принявший у нее ключи от железного ящика, где хранились нехитрые документы их комсомольской организации, да пирамидку винтовок.
Грицько повзрослел, вытянулся, глаза утратили прежнюю мягкость, и улыбался он теперь редко и как-то осторожно. Тетку его осудили, и он старался не вспоминать о ней.
Остро пережив угрозу, нависшую было над Скумырдой, он теперь старался изо всех сил, чтобы никто не мог упрекнуть его родное село.
Заезжая на заставу, он заворачивал повидать Устю, подгадывая, чтобы Кутай был дома.
- Ко мне стесняется, - объясняла Устя.
- Чего он стесняется?
- Не понимаешь, Жорик?
- Влюблен?
- По молодости. А що, чи я кривобока?
- То-то и дело, гляди теперь в оба, - любуясь Устей, говорил Кутай. Красивая жена - чужая жена.
- Такое брось!
- Все хлопцы очи на тебя проглядели...
- Пущай, Жорик, - добродушно сказала Устя. - Пущай глядят, не убуду от этого. Тут пробегал Стрелкин, кудась спешил, затормозил возле меня, я по кипяток до титана ходила... Стал и каже: вы, Устенька, як живописная картинка.
- Ну, и что же ты? - полюбопытствовал Кутай, чуточку прихмурившись. Что тому Стрелкину? Ишь, святый, святый, а туда же.
- А що? Мени приемно. Посмеялась. Он цибарку донес...
- Живописная картинка. - Кутай покачал головой. - Прибавила ты мени праци, Устя. Пока вел борьбу лишь с бандеривцями, а зараз придется обнажать зброю на дуели с твоими ухажерами...
Устя весело ответила:
- Так у мене свой наган, Жора.
- Сдать Галайда просит наган.
- Сдать? А вин мени его давал, твой Галайда? Сдам, колы ни одного трезубца не буде на Украине. - И, оставив шутливый тон, спросила: Кажуть, бои идут в лесах?
- Бои не бои, а забирают в кольцо очеретовцев, Устя.
- А ты? - В голосе Усти послышалась тревога.
- Пока не зовут, а позовут...
- Заскучал?
- Не то що заскучал, Устя, а давит. Остатний раз сплоховал я.
- Не ты, а твий автомат. Це разница.
- Автомат не автомат, а осадок горький.
- Хватит, Жора. Давай чай пить, а то вернулся с ночи, будто на тебе кирпичи били. Де ты так вымарался?
- Развалины осматривали, кирпичный завод, сообщили нам, что там бандиты ховались... Ну и глаз у тебя, Устя, тебе бы только следователем быть.
- А що? Пиду учиться на следователя. Тильки кончайте тризубцив.
Кутая ждал теперь домашний уют, горячий чай и еда, не лишенная фантазии. Устя встречала его то оладьями или блинами, то варениками или пирожками.
- Ты меня закормишь, як борова, - шутливо кручинился Кутай, пришлось перевести ремень на одну дырочку...
- Ничего, Жорик, - утешала его Устя, - вызовут тебя на новую операцию, разом похудеешь.
Как бы ни шутили счастливые молодые, а все же их не оставляла тревога, ожидание новых волнений, слишком безоблачным и непривычным было их счастье. Судьбой их интересовались и в штабе отряда: намечалась отдельная квартира, об этом позаботились замполит и начальник заставы, и прежде всего майор Муравьев, приберегавший Кутая для следующей ответственной операции, назревшей в тот момент, когда в ноябре месяце начали сжимать кольцо вокруг хитро уходившего от возмездия Очерета.
Глава одиннадцатая
Задержанные в Богатинском районе Стецко и Студент были отправлены во Львов. Неделей позже туда же доставили Очерета и Катерину. Особое внимание вызывало дело Стецка: связник выходил к "головному проводу", и его показания имели значение для выявления планов нынешнего руководства оуновцев - изменений в тактике их подрывных действий.
Нелегкую задачу взял на себя Стецко, изображая побежденного, павшего на колени врага. Следователи попались опытные: они достаточно подробно изучили его биографию, сумели собрать о нем обширный материал, допросив многих из тех, кто имел к нему какое-нибудь отношение. Такая осведомленность помогала им пресекать все его попытки сфальшивить, исказить факты. Для них, оказывается, было мало признания им своей вины. Стецко вскоре уловил, что трое следователей, которые им занимались, отбросив всякое против него предубеждение, старательно отыскивали в нем положительные черты, которые он умело, профессионально тонко выпячивал. Помогало это или нет, пока трудно было сказать. Следователи не горячились, вели допрос спокойно, ровно, без высокомерия или враждебности. Что думали они, эти молодые, отлично обмундированные люди, располагавшие кабинетами с вентиляторами и удобными креслами, предупредительно предлагавшие ему лучшие папиросы и минеральную воду, когда пересыхало горло? Следователи смотрели ему прямо в глаза, пытливо, но без ненависти, даже с участием слушали его рассказы, особенно интересуясь его встречами в Мюнхене. Они требовали деталей, деталей и деталей. Фактов, фактов и фактов. О Романе Сигизмундовиче и особенно о его "теориях". Стецко понимал причину повышенного внимания к философии, рассчитанной на далекое будущее: впереди предугадывалась борьба, не менее жестокая, хотя и более тонкая. И в самом деле, "очеретовщина" отжила свой век, прямые столкновения были бессмысленны, секретная война, естественно, меняла формы. Да, Роман Сигизмундович был прав, их задача теперь была иная: постепенно и неустанно развинчивать шурупы, скрепляющие идеологическое единство мощной державы, которой стал Советский Союз.
Стецко понимал, что именно национализм мог оказаться той безотказной отверткой, с помощью которой было бы легко осуществить "развинчивание" мощного, жизнестойкого организма. Но это, по всей видимости, отлично понимали и пытливо допрашивающие его юристы-офицеры. Эти люди глубоко проникали в сущность новой тактики национализма и, задавая ему, Стецку, прямые, недвусмысленные вопросы, сами работали со сложным подтекстом, а его-то не всегда улавливал Стецко, несмотря на свой опытный, натренированный, чуткий мозг, кардинально отшлифованный в одиночестве. Иногда неожиданные вопросы застигали его врасплох: следователи будто подслушивали его внутренние монологи, раскрывали тайники его мышления. Да, с такими людьми нужно быть начеку. Как правильно понимал Стецко, Очерет окончательно пал и не представлял собой никакой ценности. Грубый боевик, несмотря на службу в криминальной полиции, не выдержал тонкого психологического напора советских следователей и, вульгарно выражаясь, "раскололся". Из Очерета не получился ни герой, ни мученик вопреки предсказаниям Романа Сигизмундовича, прочившего Очерету терновый венок. А п о ф е о з получился плачевный. Стецко не имел за собой открытых, зарегистрированных преступлений, его миссия была чисто дипломатической, и участие его в движении ограничивалось простым сообщничеством. Поэтому Стецко твердо уверил себя в том, что его не казнят, а тюремный с р о к не имел большого значения, ибо жизнь оставалась жизнью и задача в н е д р е н и я, поставленная перед ним в Мюнхене, не снималась с повестки дня. Эту часть философии Романа Сигизмундовича Стецко постарался не доводить до сведения следователей, понимая, что впереди были годы, и прав был оуновский наставник: "Музыка сильна не вундеркиндами, а трудолюбием". Одиночество помогало Стецку: осмысливая многое, он создавал фантастические планы грядущего. И перед ним вставала во весь рост, Стецко теперь хорошо понимал это, незаурядная фигура руководителя - соблазнителя и философа. Нет, не из клочка бороды высасывал тот свои теории.