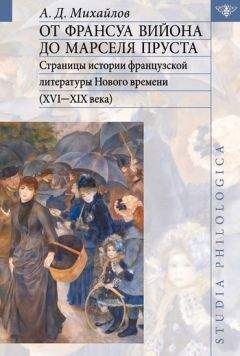Трагедия Сен-Клера – это трагедия одинокой души, замкнувшейся в самой себе, это трагедия ревности, старательно ищущей себе пищу. Одна любовь рождает чувство безмятежного счастья, другая – вечную тревогу, боязнь обмануться и – как раз из-за этой боязни – неудержимое стремление оказаться обманутым, вернее, избежать обмана, предугадав, предвосхитив его. Сен-Клер полюбил в Матильде не просто хорошенькую женщину, а женщину, которая захотела стать ему близкой, ибо имела для этого все основания. Если угодно, герой и героиня «Этрусской вазы» также совершают «двойную ошибку»: он слишком дает волю своей ревности, оказывается слишком недоверчивым и подозрительным, не поверив в беспредельную искренность своей возлюбленной, она же не до конца (или слишком поздно) понимает всю тонкость и ранимость его души.
Новелла «Двойная ошибка» создана в период самого начала знакомства с Женни Дакен. Автобиографический элемент здесь просматривается в меньшей степени, и исследователи на нем не настаивают. Однако и здесь отразился личный опыт Мериме, его размышления о любви и о счастье.
Полагают, что новелла несколько растянута[352], но длинноты не сделали ее маленьким романом. Между тем новелла построена с изумительным мастерством, вполне в духе Мериме. Первая ее половина посвящена ухаживаниям за Жюли Шатофора и страданиям молодой женщины из-за грубости, холодности и скандальных измен мужа. Мериме исподволь готовит читателя к тому, что Жюли вот-вот ответит на чувство Шатофора. Однако писатель и в этом случае умело мистифицирует читателя, слегка подсмеивается над ним, ибо сюжет неожиданно делает крутой поворот. Падение Жюли происходит, но его виновником оказывается совсем не Шатофор. Ухаживания Шатофора обречены на неудачу, так как вполне укладываются в те светские нормы, в которых столь быстро разочаровалась Жюли де Шаверни. «Она была молода, красива и замужем за человеком, который ей не нравился, – пишет Мериме, – вполне понятно, что ее окружало далеко не бескорыстное поклонение. Но, не считая присмотра матери, женщины очень благоразумной, собственная ее гордость (это был ее недостаток) до сей поры охраняла ее от светских соблазнов. К тому же разочарование, которое постигло ее в замужестве, послужив ей до некоторой степени уроком, притупило в ней способность воспламеняться. Она гордилась тем, что в обществе ее жалеют и ставят в пример как образец покорности судьбе. Она была по-своему даже счастлива, так как никого не любила, а муж предоставлял ей полную свободу. Ее кокетство (надо признаться, она все же любила порисоваться тем, что ее муж даже не понимает, каким он обладает сокровищем) было совершенно инстинктивным, как кокетство ребенка. Оно отлично уживалось с пренебрежительной сдержанностью, совсем непохожей на чопорность. Притом она умела быть любезной со всеми, и со всеми одинаково. В ее поведении невозможно было найти ни малейшего повода для злословия»[353].
Тем самым воображение Жюли может поразить лишь человек не то чтобы иного круга, но иного сорта и, главное, иного эмоционального мира. Таким и оказывается Дарси. В годы юности, лет шесть-семь тому назад их связывала своеобразная дружба, вернее сообщничество; они заключили почти молчаливое соглашение поддерживать друг друга и тем самым противостоять светскому злословью. Романа между ними не было, лишь взаимная склонность, которая легко могла бы перерасти в роман. Оба были молоды, красивы, остроумны, язвительны, самолюбивы. Но он был беден, она же – завидная невеста. И тут Дарси неожиданно получил назначение в Константинополь, а в его отсутствие Жюли вышла замуж. Для молодой женщины с ним связаны, таким образом, не воспоминания о былом увлечении, а лишь смутная память о предощущении чувства, о годах юности, которые непременно кажутся счастливыми. И вот когда Жюли и Дарси случайно оказываются в опасной тесноте кареты, эти воспоминания на них нахлынывают – и как раз в соответствующем восприятии – как о счастливейших мгновениях жизни. Оба признались, что чувствуют себя одинокими, а потому – несчастными. Оба подумали, что мечтают о подлинной любви. Жюли показалось, что она действительно влюблена, Дарси же был сильно, слишком сильно, взволнован. В этом была первая ошибка каждого из них.
Известна последняя фраза новеллы (отсутствовавшая, между прочим, в первом издании): «Эти две души, не понявшие одна другую, были, может быть, созданы друг для друга»[354]. Она вызывала немало споров, ибо не вполне проясняет смысл «Двойной ошибки». Так что же помешало героям понять друг друга? Помешал, конечно, не некий «эгоизм», о котором подчас пишут. Во многом помешали царившие в обществе отношения между людьми, и поэтому вполне прав Ю. Б. Виппер, когда отмечает, что «истоки зла, уродующего жизнь хороших по своим задаткам людей и мешающего им достичь счастья, коренятся в самой природе господствующего общества»[355]. А как же иначе? Характеры героев сформированы их средой, вот почему в Жюли так много светского кокетства. Впрочем, вспомним суждение самого Мериме об этой новелле, высказанное много позже (и как всегда, очень самокритичное). Весной 1864 г. он писал одной из знакомых: «Бывают кокетки, которые действительно любят. Что же происходит в их сознании? Когда-то я попытался затронуть этот вопрос, но потерпел полное фиаско, ибо ничего не понимаю в женщинах»[356]. Это, конечно, типичная для Мериме рисовка: в женщинах, в их характерах и чувствах он разбирался прекрасно. Жюли де Шаверни и Дарси – характеры индивидуализированные, их детерминированность общественной средой весьма относительна. Влияние общества, тем самым, ложится как бы на различный субстрат. Жюли и Дарси в общем оба плывут по течению, не стараются бороться с обстоятельствами. И в этом тоже их ошибка. Но главное – в характерах обоих в очень сильной степени дает о себе знать скептическое отношение к жизни, человеческим чувствам, в конце концов – неверие в подлинные любовь и счастье.
«Он был слегка мизантроп, обладал едким умом»[357]. Это Мериме о Дарси. «Похож на свои сочинения: холоден, тонок, изящен, с сильно развитым чувством красоты и меры и с совершенным отсутствием не только какой-нибудь веры, но даже энтузиазма»[358]. Это молодой Тургенев о стареющем Мериме. К тому времени (февраль 1857 г.) французский писатель уже завершил лепку своего человеческого образа; в пору написания «Двойной ошибки» он был в самом начале этой работы. Но направление ее определилось давно. И тут перед нами несомненная человеческая трагедия. Открытый для любви и дружбы, Мериме с каждым прожитым годом все более разуверялся в них (и все-таки их неустанно искал), замыкался в себе, погружался в спасительный скепсис.
Об этом писали все, кто его знал или хотел понять. И. С. Тургенев: «Под наружным равнодушием и холодом он скрывал самое любящее сердце; друзьям своим он был неизменно предан до конца; в несчастии он еще сильнее прилеплялся к ним, даже когда это несчастие было не совсем незаслуженное <...> В нем с годами все более и более развивалось то полунасмешливое, полусочувственное, в сущности, глубоко гуманное воззрение на жизнь, которое свойственно скептическим, но добрым умам, тщательно и постоянно изучавшим людские нравы, их слабости и страсти»[359]. Ипполит Тэн: «В нем как бы жило два человека: один, живший в свете, сполна расплачивался за взятые на себя обязательства и сообразовывался с принятыми там условностями; другой, держащийся в стороне или даже над первым, с насмешливым видом и покорностью судьбе взирал окрест себя»[360]. Анатоль Франс: «Под маской холодного цинизма скрываются черты нежные и строгие, которых, однако, никто не видел. Застенчивый и гордый по природе, Мериме рано замкнулся в самом себе и еще в юности приобрел тот сухой и иронический облик, который сохранил на всю жизнь. Сен-Клер из “Этрусской вазы” – это он сам»[361].
Чувство одиночества преследовало Мериме долгие годы; им окрашены и его произведения, и, естественно, его письма. «Жениться мне уже поздно, – пишет он в 1855 г. одной из знакомых, – но мне хотелось бы найти какую-нибудь маленькую девочку и воспитывать ее. Мне не раз приходила мысль купить такого ребенка у цыганки, ибо, даже если мое воспитание и не принесло бы хороших плодов, я все же не сделал бы маленькое существо еще несчастнее. Что вы на это скажете? И как бы раздобыть такую девочку? Беда в том, что цыганки очень уж черны и что волосы у них, как конская грива. И почему только нет у вас какой-нибудь золотоволосой девчурки, которую вы могли бы мне уступить?»[362] Эта тема возникает и в других письмах. Так, в сентябре 1857 г. он признается г-же де Монтихо: «Мне кажется, что в жизни можно заниматься двумя вещами. Первая состоит в том, чтобы, если это возможно, избегать совершать глупости. Вторая же заключается в том, чтобы насколько возможно философски относиться к последствиям, коль скоро глупости наделаны. Вы знаете, как я провел лучшую часть своей жизни. Возможно, все это были глупости в духе пошлого романа. Но роман этот имел для меня довольно печальную развязку. Все мои ухищрения, все мои планы на будущее, правда, достаточно туманное, рухнули. У меня нет ни храбрости, ни сил на то, чтобы строить новые планы. Единственное преимущество, которое я смог бы теперь найти в женитьбе, это немного нежности во время болезни и особенно в тот весьма неприятный момент, когда надо будет отправляться в иной мир. Подходя к этому эгоистически, такое преимущество стоило бы обдумать. Но с другой стороны, все это ужасно – и ответственность перед женщиной, и заботы о ней, и то будущее, на которое ее обрекаешь. Как-то у меня был кот, и я очень любил с ним играть. Но когда у него появлялось желание навестить кошек на крыше или мышей в погребе, я задавал себе вопрос, могу ли я удерживать его около себя ради своего собственного удовольствия. И точно такой же вопрос задавал бы я себе, и с еще большими угрызениями совести, относительно женщины. Будь я уверен, что оставлю после себя что-то путное, я бы предпочел иметь девочку, которую я бы постарался воспитать очень хорошо. Но ведь это весьма сомнительная лотерея. Я думаю, что самое лучшее, это привыкнуть жить, как живет дерево, и этому покориться»[363].